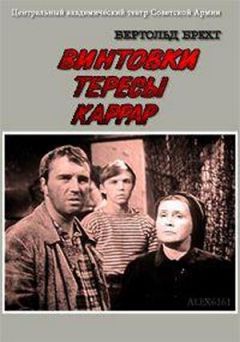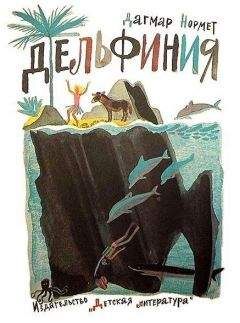Дагмар Эдквист - Гости Анжелы Тересы
Она почти все поняла, но на всякий случай спросила:
— А что это означает?
Он перевел, приблизительно, но особенно стараясь, старинную народную песню:
Ты думаешь, нас кто-нибудь слышит? — Нет.
Можно, я тебе пошепчу? — Да.
У тебя есть возлюбленный? — Нет.
Хочешь, чтобы им был я? —
Она улыбнулась, и он ее слегка потормошил:
— Не хватает ответа, ты же слышишь! Хочешь, чтобы им был я?..
— Да, — ответила Люсьен Мари.
Комната вся плавала в золоте. Зеленый великомученик Сан Хуан висел, незаметный, в тени. Фены для сушки волос и женские голоса внизу теперь еще больше походили на жужжание насекомых на летнем лугу.
И вдруг послышался новый звук: грузные шаги по лестнице, по чердаку.
Они отпрянули друг от друга. Давид произнес односложное шведское ругательство.
Стук в дверь. Деликатное выжидание на грубое — да! Давида; потом дверь отворилась и за нею оказалась Консепсьон, улыбаясь так, что были видны все ее десны. На бедре она держала высокий кувшин с водой и в таком виде была похожа на богиню плодородия. Она сказала:
— Вот вам горячая вода — если сеньора захочет помыться с дороги.
Против всех и всяких ожиданий оказалось, что Консепсьон, видимо, прочла все-таки какой-то английский роман.
Давид повернулся к Люсьен Мари:
— Тебе нужна горячая вода?
Люсьен Мари в смятении покачала головой и ответила: нет, спасибо, и да, спасибо.
Консепсьон поняла это как поощрение к дальнейшей беседе. Она поставила кувшин на пол и умудрилась скомбинировать два жеста — скрестить руки на животе и погрозить пальцем Давиду.
— Я сразу же узнала вашу жену! Добро пожаловать, говорю, проходите, пожалуйста, в его комнату, сеньора!
— Как узнали? — повторил Давид глупо.
— Да по фотографии, она у вас в ящике. А другая вон, на письменном столе. Я же не виновата, что вижу их, когда убираюсь… Ну и хорошо, право, что она приехала, карамба! — заключила Консепсьон.
— Что она говорит? — спросила Люсьен Мари.
— Она говорит, сразу же узнала, что ты моя жена, и хорошо, что ты приехала, — перевел Давид неохотно.
— Ага! — сказала Люсьен Мари.
— Почему ты говоришь ага? — сердито спросил Давид, и настроение его нисколько не улучшилось при виде невольно улыбающихся друг другу женщин. — В чем дело? Что вы стоите и смеетесь? Кажется, ты уже успела заручиться союзницами там, внизу…
— Да ведь я их даже не понимаю, — пожала плечами Люсьен Мари, но опустила глаза.
— Хорошо — очень хорошо, — заключила Консепсьон, повела руками от одного к другому, как бы аплодируя, и скрылась за дверью.
Давид вздохнул. Люсьен Мари также. Им обоим всегда было нестерпимо досадно, когда у них крали мгновения блаженного дурачества. Он вынул из кармана пачку сигарет, предложил ей, услышал, как всегда, ее отказ, зажег сигарету себе.
— Ну, первый бесплатный совет, чтобы мы поженились, мы уже получили, — сказал он.
Люсьен Мари играла концами своего шарфика.
— Наводит на размышления, верно?
Этого он, наверное, не расслышал, потому что опять сел на кровать и похлопал по покрывалу рядом с собой.
— Иди сюда и рассказывай все сначала. Ты — это ответ на мою телеграмму?
— Да.
— Но ответ-то — да?
Но на этот раз уклонилась от ответа она, подняла, прерывая его, руку:
— Подожди. Раньше наш разговор никогда не состоял из одних только да-да-да и нет-нет-нет.
— Но не приехала же ты за тем, чтобы сказать нет?
— Сначала я хочу узнать, почему ты этого хочешь — теперь.
— Разве мы только что не дали друг другу довольно-таки красноречивого ответа?
Она улыбнулась.
— Конечно. Но наши отношения за это время прошли столько фаз, что простыми их никак не назовешь. Мы любили друг друга — и расстались. Ненавидели друг друга (Никогда! — Нет, почти что) — и все-таки встретились вновь. Иногда ты меня просто боялся — боялся за свою свободу.
— Верно, — согласился Давид, — но теперь…
Он прервал себя и последовал за ее взглядом.
Войдя, он бросил свое пальто на спинку кровати.
Солнечный луч из окна, пыльный и наглядный, как на иконе, падал сейчас прямо на пальто. Луч блестел на длинном, прямом волосе, застрявшем в его грубом ворсе.
Люсьен Мари успела раньше. Она взяла этот волосок, обвила вокруг своего тонкого пальца.
— Белокурый, — констатировала она с изумлением ученого. — Не совсем обычно для здешних мест, не правда ли?
Давид сделал то, чего, неслышно себя заклиная, пытался не делать: покраснел. Покраснел так, что в глазах его промелькнул голубой блеск, а волосы стали еще более песочно-желтыми, чем обычно.
Но Люсьен Мари улыбнулась. Улыбнулась и поцеловала его, не в хмуро сжатые губы, а в ямочку на подбородке, которую всегда так трудно выбрить.
— Милый — это вторая причина моего появления здесь самолетом.
— Какая, позвольте узнать, — сдержанно и с достоинством спросил Давид.
— Мне захотелось взглянуть, как у тебя идут дела с ученицей Фауста.
Давид фыркнул.
— Здесь тебе нечем будет поживиться.
Люсьен Мари ничего не ответила, только подняла тот волос и опять положила его на пальто, как червяка на лист капусты.
Давид тоже взял его, как капустного червяка, подошел к окну и выпустил па волю.
— Ты решила польстить мне тем, что ревнуешь?
— Нет, зачем, я же чувствую, как ты меня принял, — мягко сказала Люсьен Мари.
— А раньше?
— Возможно.
— Непонятно. После того, как меня совесть загрызла, что в своем письмо я так ужасно изобразил бедняжку Наэми.
Точнее говоря, угрызения совести не давали себя знать, пока обе женщины не оказались в одном месте и появилась возможность их встречи. Раньше он только наметил в своем письме очертания образа Наэми, как они это часто делали с Люсьен Мари, с болтливой нескромностью взаимного глубокого доверия друг к другу.
— Хм, — произнесла Люсьен Мари, щуря глаза и поддразнивая его. — У нас, женщин, есть не один способ учуять опасность.
— А, тебе наверно что-то сказала Консепсьон?
— Сказала — не сказала, не больше, чем ты сам слышал.
— У вас, у женщин, волшебные барабанчики, что ли, есть, может, они предупреждают вас об опасности? — резко спросил Давид.
Люсьен Мари сидела на постели, обхватив колени, и глядела на него, сузив глаза. Промолвила задумчиво:
— Наверно, женщины типа жен единым фронтом стоят против мародеров…
— Ах, вот оно что! И теперь здешние женщины причисляют тебя к типу жен?
— Они оказали мне эту честь, месье.
— А бедняжку Наэми к мародерам?