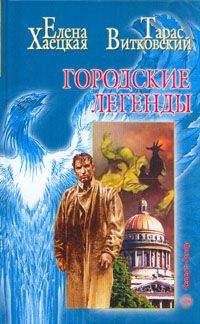Лючано Де Крешенцо - Елена, любовь моя, Елена!
– Что тут происходит? – спросил Леонтий.
– Царь Спарты и троянец Ахилл будут биться до последней капли крови, – ответил Гемонид. – Тому, кто победит, достанется и женщина, и все добро убитого.
– А что будет с нами?
– Если верить вождям, чем бы ни кончился поединок, мы вернемся на Гавдос.
– Надо же! – воскликнул Леонтий искренне огорченный. – Как раз теперь, когда мне так хочется повоевать!
Гемонид промолчал, хотя мог бы напомнить своему воспитаннику о далеко не героическом финале его первой схватки с врагом. Старик пощадил самолюбие юноши.
– Скажи мне, о Гемонид, – снова спросил Леонтий, – кто, по-твоему, победит – Атрид или подлый Парис?
– Что касается силы, – ответил Гемонид, – то тут никаких сомнений нет: Менелай намного превосходит противника. Правда, он пониже ростом, чем Агамемнон, но все же на добрую ладонь выше Париса. Вопрос тут иной: если Менелай победит, согласятся ли троянцы выполнить условия договора? Сколько раз они клялись – я сам тому свидетель – богами, столько же раз изменяли своим клятвам.
– То, что троянцы не очень щепетильны в вопросах чести, было общеизвестно. А потому, прежде чем вступить в поединок, Атрид потребовал, чтобы соглашение было скреплено словом более авторитетного человека, чем юный Парис.
– О троянцы! – воскликнул царь Спарты, стоя на колеснице. – Я тоже считаю, что пора прекратить бессмысленное побоище. Принесите сюда двух агнцев – белого барана и черную овцу – в честь Солнца и Земли. Третью часть мяса жертвенных животных мы посвятим Зевсу. После этого пусть могучий царь Трои сам скрепит договор, ибо печальный опыт подсказывает мне, что нельзя полагаться на его спесивых и коварных отпрысков. У молодых людей головы горячие, все у них зависит от настроения, а сердца пожилых крепче скал: они умеют смотреть вперед, оглядываясь назад, и не нарушают клятв, данных перед богами.
Вскоре оповещенный об этом Приам в сопровождении совета старейшин[39] появился на одной из башен скейских ворот. Старый царь захотел, чтобы при поединке присутствовала его невестка – Елена, и велел позвать ее. Появление Елены придворные встретили гулом голосов – одни с восторгом говорили о ее величественной осанке (совсем как у богини), другие называли ее главной и единственной виновницей всех обрушившихся на Трою несчастий.
– Иди сюда, дочь моя, сядь со мной, – сказал Приам Елене, давая ей место на своей скамье. – Сейчас мы увидим поединок между твоими мужьями – прежним и нынешним, поединок не на жизнь, а насмерть – копье на копье, меч на меч, щит на щит. Думаю, ты будешь одинаково переживать и за того, и за другого.
– О, я, подлая сука! – воскликнула, рыдая Елена. – Лучше бы мне околеть в тот день, когда я убежала с твоим красавчиком сыном, покинув надежное супружеское ложе, малую дочь и милых сердцу подруг! Горе мне, несчастной: что я могу? Только надрывать свою душу слезами!
Слова Елены вызвали у придворных новые комментарии: любившие ее, растрогались, ненавидевшие – обвиняли в лицемерии.
– Не обращай внимания на завистников, оговаривающих тебя, моя любезная дочь, – ласково сказал Приам, притягивая Елену за шею к себе и гладя ей волосы. – Не ты, считаю я, повинна в наших бедах, а одни только боги: это они наслали на нас ахейцев, они сделали твое несчастье поводом к войне.
Из третьей песни «Илиады» сам собой напрашивается вывод, на который историки никогда не обращали достаточного внимания. Ясно же, что и Приам потерял голову из-за Елены! Старый волокита, привыкший иметь в своем распоряжении сотни наложниц, он, должно быть, смертельно завидовал Парису с того самого дня, как тот привез ему такую роскошную сноху. В общем, ответственность за войну (и притом серьезную) я возложил бы и на него, ибо когда Менелай явился в Трою вместе с Одиссеем, чтобы по хорошему забрать свою супругу, другой царь, не такой неисправимый бабник, на его месте не задумываясь удовлетворил бы требование законного мужа.
Между тем Менелай и Парис готовились к великому единоборству.
Атрид, чтобы чувствовать себя менее скованным в движениях, вместо бронзовых почти пятикилограммовых доспехов надел легкую кожаную безрукавку, обшитую, естественно, медными пластинками. Зато взял довольно увесистый круглый щит, украшенный сценами и узорами, прославлявшими бога войны Ареса.
Парис же, верный своему имиджу первого красавца, и на сей раз не смог отказаться от эффектного появления перед публикой и потому водрузил на голову великолепный шлем, украшенный черным лошадиным хвостом, доходившим ему до пояса. К тому же он облачился в одолженный у своего брата Ликаона двойной thorax, закрывавший его от шеи до паха: это была самая настоящая бронзовая кираса толщиной чуть ли не в палец, практически непробиваемая и, как говорят, принадлежавшая некогда отцу Приама – легендарному Лаомедонту. Конечно, весила она слишком много, да что поделаешь – в ней Парис мог не опасаться рубящих ударов Менелая. Ну, а вдобавок он надел еще и украшенные серебряными пряжками бронзовые поножи.
– Да принесет Зевс победу честнейшему и поражение сластолюбцу! – воскликнул Леонтий.
– Не могу не согласиться с тобой, – заметил Терсит, – но хочу только спросить: кто, по-твоему, из этих двух злодеев «честнейший», а кто – «сластолюбец»? Не лучше ли просто сказать: «Да принесет Зевс смерть Парису!» – ибо таким неопределенным пожеланием ты рискуешь сбить с толку отца богов!
– В чем ты хочешь меня убедить, о коварный Терсит? – возмутился Леонтий. – Что они оба одинаково грешны?
– Конечно! А где, по-твоему, находился Менелай в тот вечер, когда Парис похитил у него эту распутницу?
– Он был на Крите… охотился вместе с Идоменеем…
– Да, на Крите, но не с Идоменеем, а в постели с другой распутницей – Кноссией, отдававшейся ему исключительно за деньги.
– О Терсит, как я тебя ненавижу! – воскликнул возмущенный до предела Леонтий. – Не хочу больше верить твоим гнусным выдумкам: только и делаешь, что всех поносишь!
– Ты не хочешь даже, чтобы я помог тебе узнать, куда делся твой отец?
– Нет, хочу. Но прошу тебя, – взмолился юноша, едва не плача, – постарайся не отзываться о нем худо. Сделай такое исключение хотя бы для моего отца!
– Не мне рассказывать о Неопуле дурное или хорошее, сынок. Это сделает мой друг – торговец, как только вернется из Эфеса.
Гектор и Одиссей отмерили необходимое для поединка пространство широкими шагами, очертили концом мечей границы площадки, затем пометили деревянные плашки (на одной была изображена секира, на другой – двойная башня Илиума) и положили их в шлем, чтобы жребий указал, кому метнуть копье первым. Жребий начать бой выпал Парису.