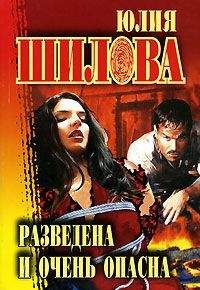Екатерина Коути - Невеста Субботы
— Ах, кузина Флоранс! — Мари гладит меня по плечу, и занавес опускается. — Прошу, не продолжай! Это все я, это я виновата, что затронула такие струны твоего сердца!
— Когда мы с Фло вышли подышать воздухом, — приходит на выручку Ди, — на нас напали дезертиры-янки. Пришли с болот разнюхать, что плохо лежит, а наткнулись на нас и решили… оскорбить. Нас затащили в беседку в дальнем углу сада. Кричать мы не могли, нам угрожали тесаком. Если бы Жерар и Гийом не оказались поблизости, то…
— Хватит, — останавливает ее тетя Иветт. — Мы выслушали достаточно, чтобы составить представление о той ночи. Нэнси, накапай мисс Фариваль нервического тоника.
Зато Олимпия не отказалась бы послушать и дальше. Чем еще глушить голод, как не омерзительными подробностями?
— Выходит, Жерара и Гийома убили дезертиры? — уточняет она. — А как именно?
— Олимпия!
— В чем дело, maman? Вам же угодно, чтобы я испортила себе аппетит. Вот я и порчу. Ну так что, кузина Дезире? Как их убили?
Дезире сглатывает, родинка на подбородке поднимается и резко опускается.
— Братьев Мерсье… их очень жестоко убили, кузина Олимпия. Они ведь служили в войсках Конфедерации, и у янки были к ним свои счеты. Их так жестоко убили, кузина, что когда прибежали их боевые товарищи, то один на месте сомлел, а был он не робкого десятка. — Положив ладони на стол, Дезире привстает и подается вперед, не сводя глаз с Олимпии, которая смотрит на нее, приоткрыв рот, — наверное, такой же тупой взгляд я давеча вперила в стену.
— Страсти-то какие! — восклицает Иветт, а Дезире возвращается на место.
— А когда гости пришли в себя, то сразу пошли искать убийц. Нашли-то их быстро — душегубы на болоте думали схорониться. До суда не дошло. Линчевали их прямо на месте, вздернули на том же дереве, в дупле которого они прятались.
— А Гастон? — спрашивает внимательная Мари.
— Что — Гастон? — не понимаю я.
— Гастон Мерсье, третий брат. Почему ты не вышла замуж за него?
Господи, я даже лица его не помню! А вот лица Жерара и Гийома навсегда отпечатались в моей памяти. Трудно забыть такое.
— Он погиб при Батон-Руже, вместе с Эдмоном Валанкуром, братом моей лучшей подруги Аделины. И с другими мальчиками.
— Повезло ему, — говорит тетя. — Всяко лучше, чем быть убитым дезертирами близ родного дома. Или вернуться калекой.
— Братья Мерсье стали ангелами и молят Бога за нас всех! — заключает набожная Мари.
После отъезда тети и девочек я переодеваюсь в домашнее платье коричневого оттенка и устраиваюсь в утренней гостиной у камина. Лениво листаю молитвенник. Когда я одна, без Ди, молюсь редко и скорее по привычке, но давешний разговор разбередил мне совесть. Я ищу добрые слова, чтобы помянуть братьев Мерсье. Вместо этого в памяти вертится тот гадкий случай с лимонадом и виски. Кажется, будто только вчера я обмирала за кипарисом, слушая свист плети из воловьей кожи и крики несчастного, на чью спину она опускалась. Искупила ли мученическая кончина Жерара его поступки при жизни? В богословских тонкостях я, увы, не сильна.
Напольные часы с корпусом из красного дерева бьют сначала двенадцать, потом час, а после двух ударов я слышу, как к дому подъезжает карета. Совсем скоро мой покой нарушат сестры, и пойдут разговоры о том, кто во что был одет, и какой из певчих дал петуха, и чей храп мешал священнику читать проповедь — обычные темы для воскресного полудня. Но как же я изумлена, когда в гостиную входит Нэнси и, сделав книксен, сообщает, что ко мне с визитом джентльмен.
Вот ведь незадача! Кажется, впервые я принимаю гостя мужеского пола, а платье такое затрапезное!
Взбудораженная, я забываю спросить, кто почтил меня присутствием, и за ту минуту, пока Нэнси приводит гостя, на ум мне приходит совершеннейшая глупость, такая, что вымолвить стыдно. Но разве не об этом пишут в романах? Сначала джентльмен пренебрегает тобой на балу, а потом оказывается, что он влюблен в тебя по уши, да еще и при деньгах…
Даже хорошо, что глупость эта не успела оформиться в надежду, потому как вслед за горничной входит не кто иной, как мистер Джулиан Эверетт. Одет он по-воскресному, в строгий, но ладно скроенный сюртук темно-синего сукна, с галстуком на два оттенка светлее. Рыжеватые волосы гладко зачесаны набок, пробор прямой, как под линеечку.
Сдержать разочарованный вздох непросто, но мне это удается.
— Мистер Эверетт? — встаю я, когда горничная оставляет нас наедине. — Не ожидала увидеть вас так скоро.
— Мисс Фариваль… — Гость кланяется, что при его немалом росте и худобе выглядит так, словно тростник надломили. — Как жаль, что я не застал вас в церкви. Пришлось испросить у мадам Ланжерон разрешение посетить вам на дому. Иначе как бы я передал вам подарок?
Резко втягиваю воздух. Неужели веер? По нашим креольским обычаям именно веер, подаренный девушке, знаменует собой начало помолвки. Но мистер Эверетт выуживает из кармана темно-зеленый, ничем не примечательный томик. Беру подношение с опаской — вдруг это собрание чьих-то проповедей? Но нет, это «Базар гоблинов и прочие стихи» некоей Кристины Россетти.
— Откройте же книгу!
На фронтисписе изображена весьма, надо заметить, мускулистая блондинка, которая остригает свой локон, пока вокруг нее толпятся мыши и совы. В лапах они держат подносы с фруктами — недаром такие упитанные! На противоположной странице та же девица спит в обнимку с другой. Белиберда какая-то. Что бы сестра Евангелина ни говорила про полет мысли, фантазия тоже бывает чрезмерной.
Тем не менее я вежливо благодарю дарителя. Откуда ему знать, что я не очень-то люблю читать о фруктах и мышах?
— Вы сказали, что рассчитывали увидеть меня в церкви. Так вы католик?
Утвердительный кивок.
— Но разве в Англии католики имеют право заниматься политикой?
— У вас устаревшие сведения, мисс Фариваль. С тех пор как в тысяча восемьсот двадцать девятом году был принят билль об эмансипации католиков, сыны Римской церкви получили право заседать в парламенте. Да и вообще, католичество нынче в моде. В начале века на него смотрели как на пережиток темных веков, ныне же — как на реликвию времен рыцарских, благородных. Пожалуй, художники-прерафаэлиты сделали для католичества больше, чем кардинал Ньюмен[18] и его коллеги из Оксфорда.
Я киваю, хотя для понимания всего того, о чем он говорит, мне явно не хватает широты кругозора.
— Просто я не ожидала встретить католика-янки… то есть англичанина.
— А я не совсем англичанин. Я англо-ирландец из Белфаста. А это все равно что мулат, — усмехается он. — От моего отца, Томаса Эверетта, мне досталось лошадиное лицо, а от матушки, урожденной Кэтлин О’Грейди, — веснушки и вера. Сочетание, как видите, своеобразное. Будь во мне одна только ирландская кровь, я показался бы вам милее.