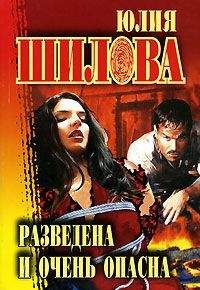Екатерина Коути - Невеста Субботы
И этот кто-то — не Дезире.
Дома над моей кроватью висела кисейная занавеска от комаров, так что в любой час ночи я могла разглядеть обстановку комнаты, пусть и сквозь пелену. Но плотный бархатный балдахин совсем не пропускает свет. Не разберешь, одна я тут или с компанией. Мрак давит мне на лицо, просачивается в широко распахнутые глаза. Наверное, так чувствуют себя люди, впавшие в забытье от лихорадки, а проснувшиеся уже в заколоченной домовине. Ни пошевелиться, ни закричать. А сверху доносится скребущий шорох — горсти земли падают на крышку гроба, ползут, скользя лапками, потревоженные жуки.
…Мел скрипит по грифельной доске…
И зажат он в пальцах, не отличимых от него по цвету. Таких же белых, мертвых. Потому что плоти на них нет.
Только под утро я нахожу в себе достаточно решимости, чтобы отодвинуть завесу. Через узенькую щелку в мое убежище сочится прохладный свет, а может, это мой страх вытекает наружу вместе с тьмой, но так или иначе, на душе становится спокойнее. Еще одна радость — доска девственно чиста. Никто за всю ночь к ней не притронулся.
Значит, все-таки розыгрыш. Уж не знаю, чьих это рук дело, Ди или кузин, которых моя сестрица подбила на пакость, но без нее тут не обошлось. Начинаю опять злиться.
За ночь я глаз не сомкнула, так что чувствую себя, словно меня пропустили между двумя валами, что размалывают сахарный тростник. Щеки отекли, под глазами синь. И как только тазик не трескается, когда над ним склоняется такое пугало? Освежив лицо, я достаю из-за ширмы ножную ванночку, чтобы наскоро обтереться губкой, но вдруг понимаю, что Ди не ошиблась на мой счет.
Да, началось! Придется денек-другой поваляться в постели в обнимку с грелкой, чашкой взвара из ивовой коры и, конечно, с томиком Жорж Санд. Едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться от радости. Такой повод прогулять мессу! Всю неделю я ломала голову, выдумывая отговорки, а тут нежданный подарок. Словно Господь тоже все это время думал, как бы отвадить меня от дома своего, и выбрал наилучший вариант. Так мы оба сохраним лицо.
С деланой рассеянностью помешивая кофе, я сообщаю Иветт за завтраком, что пропущу мессу ввиду нездоровья. Случись это дома, мама запустила бы в меня сахарницей, как Мартин Лютер — чернильницей в нечистого, но тетя Иветт лишь равнодушно кивает. Ее занимают не девичьи хвори, а содержимое тарелки Олимпии.
— Может, хватит размазывать масло по гренкам, ты же не маляр у забора. И куда столько ветчины положила? Нэнси, я ведь просила обносить барышню блюдом с ветчиной, — сердится тетушка, хотя перед ней самой высится могильник из гренок, бекона и ошметков глазуньи.
Олимпия прикусывает бледную нижнюю губу. То ли обижена, то ли ищет, чего бы еще пожевать.
— Я ем не так уж много, maman.
— Это тебе так кажется. А мсье Фурье пошутил на суаре, что если ты и дальше будешь налегать на шербет, в свадебную карету придется запрячь еще одну лошадь. Ты же знаешь, Олимпия, ему нравятся изящные особы, похожие на сильфов. И поверь, с годовым доходом в десять тысяч мужчина имеет право быть привередливым.
— Вот начнет у меня бурчать живот, поглядим тогда, сойду ли я за сильфа, — цедит Олимпия.
И сглатывает, когда Дезире берет с подноса булочку «челси» и начинает задумчиво ее ковырять, отправляя в рот изюмину за изюминой.
— Корсет затяни потуже. Вон, бери пример с Флоранс — за все утро только одну гренку поклевала.
Я заливаюсь краской. Все мои опасения подтвердились, тетя Иветт действительно считает каждый проглоченный мною кусок!
— Кузина Флоранс!
Мари деликатно трогает меня за правый локоть. Поначалу Мари казалась мне такой же невзрачной, как ее старшая сестра, но за неделю я научилась находить в ней приятность. Весьма красив алый ротик, крохотный, будто в блюдце сливок капнули клубничным вареньем. А влажными черными глазами Мари похожа на олененка, который даже к охотнику тянется с кротким поцелуем. Удивительно, как у грубиянки Иветт родилось это неземное создание.
— Я прочитаю новену[17] за твое скорейшее выздоровление, — обещает Мари, встряхивая тугими черными локончиками. — И, как обещала, закажу мессу за упокой вашей бедняжки Сесиль.
— Спасибо, милая Мари.
Посылаю Ди недобрый взгляд. Господь будет весьма удивлен, услышав молитвы за этого выдуманного персонажа.
— И за упокой вашего папеньки, погибшего на войне.
— Спасибо.
— И за братьев Мерсье.
Чайная ложечка со звоном падает на блюдце, разбрызгивая кофе по белоснежной дамастовой скатерти.
— Но откуда?..
— Я ей все рассказала, — нехотя признается Дезире.
И когда только они успели спеться? Может, и разыграли меня на пару?
— Что еще за братья Мерсье и почему я про них не знаю? — встревает Олимпия, голодная и оттого раздраженная вдвойне.
Объяснений не избежать.
— Жерар, Гийом и Гастон Мерсье были нашими соседями, — начинаю я. — Их родители, мсье Робер и мадам Эжени, владели плантацией «Малый Тюильри» — крупнейшей на всю округу. У них был огромный дом с мебелью, выписанной из Парижа, и скульптурами, которые мсье Робер собрал во время гранд-тура в Италии…
— …а в саду была теплица с диковинными фруктами. Еще там было искусственное озеро, а на нем остров с игрушечной крепостью! — присовокупляет Ди, не забывая угощаться булочкой. — А в крепости была пушка, которая палила апельсинами!
— Есть же родители, которым для детей ничего не жалко, — замечает Олимпия сумрачно.
— После войны Жерар и Гийом восстановили плантацию, хотя озеро пришлось закопать, а теплицу снести — все равно целых стекол на ней не осталось. Что же до сада, апельсиновая рощица меньше всего пострадала от бомбежки, зато вот бананы…
Я бы и дальше водила воображаемую экскурсию по «Малому Тюильри», но тетя и Олимпия нетерпеливо постукивают ложечками, да и Мари извертелась от любопытства.
— Но в общем и целом дела у них шли неплохо. Я была просватана за Жерара, когда еще агукала в люльке, а он носил длинное платьице. После войны мы решили обвенчаться… А потом… в ночь моего дебюта, на мне еще платье было белое…
Слова вязнут во рту. По внешнему миру пробегает дрожь, словно стена, на которую я таращусь, на самом деле шелковый занавес, искусно расписанный цветочными арабесками, но такой тонкий, что колеблется от любого дуновения. Что я увижу, если занавес поползет вверх?
…Беседку с витыми колоннами, подновленными белой краской. Как сцена, беседка белеет на фоне ночного сада. Огнями рампы служат китайские фонарики, что покачиваются на веревках, протянутых между апельсиновыми деревьями. Ночная мошкара дробно стучится о крашеную бумагу. Зачем тут иллюминация? Ах, да, по случаю праздника — нашей помолвки, но почему что-то влажно хлюпает под шелковыми туфельками и брызги крови на скамеечке — откуда? Поднимаю сведенные судорогой руки — и вскрикиваю. Кровь течет по запястьям, каплет на подол со стиснутых кулаков. Отшатываюсь назад и наступаю на что-то твердое, но вместе с тем податливое, а оглянуться не успеваю — Дезире хватает меня за плечи. Взгляд ее блуждает, блузка разорвана и едва прикрывает грудь. Опускаю глаза — и там, где должен быть сливочно-белый атлас корсажа, вижу свой кружевной лиф. Запятнанный кровью. «Ди, что произошло?» — «Ты что, ничего не помнишь?» — вопрошает Дезире, а я говорю: «Нет…»