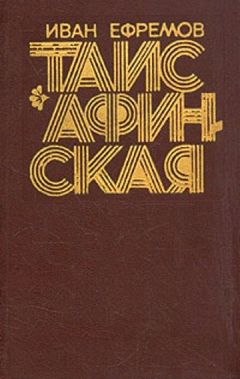Ольга Эрлер - Александр Македонский и Таис. Верность прекрасной гетеры
— А где Александр?
— Александр, — поперхнулась Геро, не зная, что сказать.
— Да. Он только что был здесь. Куда он делся?
— Он умер.
— Какая ерунда. Что вы все заладили. Он никогда не оставит меня, я его знаю… Но как болит голова! — Таис охватила голову руками и терла виски, тяжело вздыхая. — Ах, как же мне плохо! — простонала она, отвернулась к стенке, свернувшись костлявым клубочком и дрожа всем телом.
Геро с тяжелым сердцем вышла из ее комнаты.
Иногда больное сознание Таис проявляло неожиданную изворотливость. Один раз ей удалось обмануть всех и через крохотное оконце убежать в пустыню, да так, что ее кинулись искать только утром. Адонис — кто же еще — первый забеспокоился, лая всю ночь. Он же нашел ее в песках, оцепеневшую не столько от холода, сколько от досады, что ни змеи, ни скорпионы не покусились на нее и не принесли долгожданной смерти.
«Нет, Таис, нет». Он по-прежнему распоряжался ее жизнью.
Пребывая в темнице своей болезни, она едва воспринимала жизнь. К тому же, ее тщательно оберегали от травмирующих новостей о том хаосе и кошмаре, который наступил после неожиданной смерти Александра в Вавилоне 10 июня 323.[54] «Мой труп еще не успеет остыть, а они перегрызутся между собой», — прозорливо заметил как-то Александр. Именно так и случилось, слово в слово.
Сознание стерло из памяти Таис его смерть. Вернее, она просто теряла сознание, если вдруг какие-то вспышки памяти на мгновение высвечивали картины тех страшных десяти дней. Лишь годы спустя она научилась выдерживать эти воспоминания, но немедленно гнала их прочь, замещая на прекрасные картины из тех трех тысяч счастливых дней, которые они прожили вместе.
Проклятый Вавилон, проклятая малярия (если это была она), проклятая зависть богов, наказывающих тех дерзких смертных, которые уподобляются им. Проклятая жестокость жизни, которая ломает тех, кого не может согнуть. Проклятая несправедливость судьбы, сначала любившей, а потом возненавидевшей Александра, подобно оскорбленной брошенной женщине. А ведь нет, судьба, ты — не женщина, как принято думать. Если бы ты была женщиной, даже самой жестокой и злой, не могла бы ты его разлюбить, нет, потому что таких не перестают любить никогда.
…Его изменившееся лицо, неутолимая жажда, приступы лихорадки, сотрясающие любимое, исцелованное ею тысячи раз вдоль и поперек тело. Его глаза, по которым она читала его мысли, когда на седьмой день болезни речь отказала ему.
— Он хочет видеть своих солдат, — переводила Таис подобно пифии волю своего умирающего бога, не решаясь сказать «желает проститься…»
И боялась моргнуть, чтобы не оборвалась ниточка связи между ними. Потом, когда он потерял сознание, Таис твердила про себя как заклинание «нет, нет, нет…» — без перерыва, страшась, что, если она запнется, то в образовавшуюся брешь тут же проникнет железная рука бессердечного Танатоса и схватит его, унесет навсегда в никуда, в страну без возврата. Но боги сильнее смертных, Танатос победил…
Она пыталась «жить» дальше, потому что он так пожелал. С засохшей, превратившейся в мертвую пустыню душой, с кровоточащим сердцем, с полуразрушенными мозгами. Несмотря на ее честные усилия что-то возродить в себе, посеять жизнь хотя бы в небольшом уголке своей души — любовью или заботой о детях и близких, отчаянными попытками нового начала — у нее ничего не получилось, ничего не смогло заменить ей хотя бы в миллионной доле его — любимого и единственного.
Жизнь закончилась, с этим Таис примирилась, но она не смогла примириться с тем, что он умер.
Короткий срок нам угождать живым,
Но вечность, чтобы умерших любить.
Итак, в первые два года, погруженная во мрак и хаос своей больной души, Таис утратила способность помнить. Потом воспоминания вернулись к ней, и она стала жить ими. Она жила не прошлым, а в прошлом. Хотя, кто сказал, что время делится на прошлое, настоящее и будущее? Время едино и неделимо. «Есть я и ты, любимый, и мы вместе — в нашем времени». Ничто и никто не сможет отнять у нее эти воспоминания и никогда ничего не узнает о них. Это только ее достояние, тайна, богатство — это теперь ее мир, ее жизнь, ее «острова блаженных».
Иногда ей казалось, что она разгадала план Александра. «Пять лет…» Видимо, он хотел, чтобы Таис в воспоминаниях повторно прожила свою жизнь, еще раз насладилась прекрасным, разобралась в неправильно понятом. А такого — неувиденного и недопонятого, оказалось достаточно: и в мелочах, и в важном, в оценке его натуры, их отношений. Вдруг всплывали какие-то вскользь брошенные слова, взгляды и совершенно по-новому объясняли то или иное событие. Как будто находились недостающие части мозаики, без которых невозможно было понять целое.
В своем эгоизме желая видеть его все время рядом, Таис игнорировала непомерную ответственность, которая лежала на его плечах, жестокую необходимость, которая толкала его вперед. Жизнь вынуждала Александра подтверждать свой успех, побеждать, чтобы не оказаться побежденным. Как заблуждалась Таис, считая, что Александр только по собственному желанию устремляется к очередным трудностям. Есть прихоть, а есть необходимость. Жизненную необходимость Александр выставлял как собственную прихоть. А она верила. Когда-то он сказал, что ему нетрудно нести свою ношу, потому что это желанная ноша. Он считал себя счастливым человеком, ибо занимался тем, о чем всегда мечтал. Может быть… Но со временем эта ноша превратилась в бремя — бремя долга, власти, ответственности, бремя человечности, и оно давило, ломало кости, изматывало и обескровливало его.
Много прояснилось для Таис и в их личных отношениях. Ей припомнился один курьез. Александр удивился, узнав, что она не спит ни с кем, кроме него:
— Но меня же часто нет рядом? Кто-то же должен делать тебе хорошо.
— Ты с ума сошел? Если ты мне предлагаешь такие вещи, значит, ты меня не любишь.
— Как раз наоборот, — ответил он с невозмутимой улыбкой.
— Или хочешь оправдать, что ты себе все позволяешь.
— И ты должна позволять себе все, все, что ты хочешь.
— Но я не хочу.
— Это другое дело. Мне важно, чтобы тебе было хорошо всегда — рядом я или нет. Хотя ты права, так хорошо, как я, тебе никто не сделает. (Его вечная самоирония. Надо же, находились умники, считавшие ее хвастовством.)
Сейчас она поняла его, а тогда обиделась.
Властвуя над миром, он оставался ее покорным рабом. Он не сказал ей ни одного злого слова, зато не уставал восхищаться ею, повторять слова любви. Никогда не упрекал, даже если она бывала сто раз не права, лишь шутил по-доброму или посмеивался. В делах он был жестким, а с ней — только мягким, терпеливым, что было непросто при его вспыльчивом, крутом характере. А как любил ее — самозабвенно, нежно и страстно — и говорить не стоит!