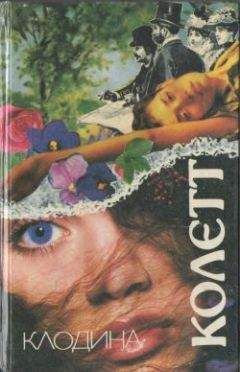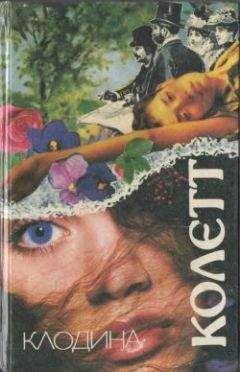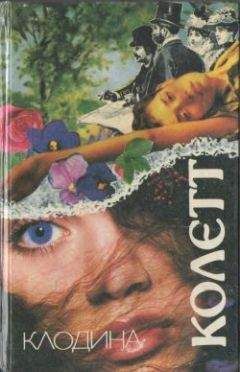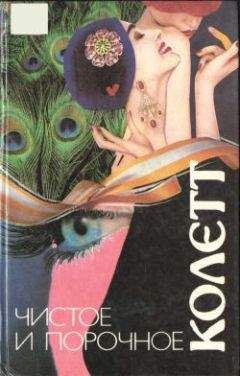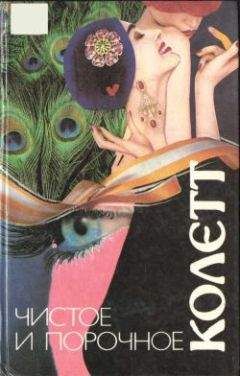Сидони-Габриель Колетт - Клодина уходит...
– Ау, Анни! Ты что, заснула?
– Нет, но с меня хватит. Эта кабина, твой чепец…
– Гм, видите, Катрина, какая смелая у меня невестка. А не устроить ли нам вместе для неё хороший, настоящий душ, под двойным давлением?
Я с опаской смотрю на бесполое существо в клеёнчатом фартуке, которое стоит в выжидательной позе на деревянных колодках. Она смеётся, обнажая красные дёсны.
– Ложитесь, сударыня… Вы и так задержались, ваши четверть часа уже давно начались.
– Сейчас, сейчас.
В одно мгновение Марта оказывается в некоем подобии наклонного открытого гроба – я вначале его даже не заметила – и ложится, прикрыв грудь обеими руками, предохраняя её от слишком сильных ударов струи. Падающий сверху свет освещает каждую складку и рыжевато-золотистый пушок на её теле… Краска стыда заливает моё лицо. Никогда не подумала бы, что у Марты столько на теле волос… Я представляю себе тело Алена и ещё больше краснею при мысли, что оно покрыто такими же золотисто-розовыми, отливающими медью волосами. Марта ждёт, закрыв глаза, локти у неё дрожат, а бесполое существо направляет на неё два свисающих с потолка толстых шланга…
Раздаются пронзительные крики, вопли, мольба… Под упорной холодной струёй толщиной с мой кулак, падающей прямо сверху и как бы гуляющей по её телу от груди к щиколоткам, Марта извивается, словно разрезанная на части гусеница, всхлипывает, скрежещет зубами, бранится, а потом, когда холодная струя сменяется горячей, блаженно вздыхает.
Ужасное существо одной рукой направляет струю, а другой, большой сильной рукой, шлёпает, безжалостно шлёпает по нежному телу Марты, и оно от ударов покрывается красными пятнами.
Через пять минут эта страшная пытка окончена. Марта закутывается в просторный тёплый пеньюар, и банщица растирает её. Сняв свой ужасный чепец. Марта смотрит на меня тяжело дыша, в её глазах стоят слёзы.
Сдавленным от волнения голосом я спрашиваю у неё, неужели всё это повторяется каждый день.
– Каждое утро, малышка! Каково! Клодина заявила в прошлом году: «Такой душ взбадривает не хуже землетрясения».
– Но это ужасно, Марта! Эта струя хуже всякой дубины, ты же плакала, рыдала… Это чудовищно!
Марта, полуодетая, оборачивается, на губах появляется странная усмешка, ноздри у неё ещё раздуваются:
– А я этого не нахожу.
Здешние обеды и ужины для меня настоящая пытка. У нас на выбор два ресторана, и оба они принадлежат казино; ведь при гостиницах нет своей кухни, а этот курортный город – город только по названию, здесь есть лишь казино, водолечебница и четыре больших гостиницы. Один вид ресторанов, куда мы все направляемся, словно пансионеры или арестанты, где мы все жаримся в полдень под палящим горным солнцем, лишает меня аппетита. Я подумала было обедать у себя в номере, но ведь кушанья будут всегда доставляться холодными, и потом, это было бы не слишком любезно по отношению к Марте, для неё обеды и ужины – возможность посплетничать, позлословить, кое-что разнюхать… Я уже начинаю говорить её языком! Каллиопа садится всегда за наш стол, и Можи, которого я с трудом выношу, тоже. Марта уделяет ему слишком много внимания, делает вид, что интересуется его статьями, буквально требует от него рецензию на «Драму сердца», последний роман Леона, которая должна способствовать его продаже и создать ему рекламу на курортах…
Леон поглощает жёсткое мясо с жадностью человека, страдающего малокровием, и не оставляет своим вниманием Каллиопу, которая упорно отсылает его писать свои шестьдесят строк и обращается с ним так, словно она настоящая принцесса крови, а он – наёмный уличный писец. Странная маленькая женщина! Должна признаться, теперь уже я ищу её общества. Она много и путано говорит о себе, останавливается и, не найдя подходящего слова во французском, вылавливает его в каком-нибудь другом языке, а я, затаив дыхание, слушаю, словно волшебную сказку, рассказ о её Полной превратностей жизни.
Чаще всего это происходит, когда Марта принимает душ и в парке почти никого нет. Я усаживаюсь в глубокое плетёное кресло позади молочной и, пока она говорит, любуюсь её яркой красотой.
– Когда я была маленькой, я была очень хороша собой.
– Почему вы говорите «была»?
– Because[12] теперь я не так. Старуха, которая стирала у нас бельё, всегда плевала мне в лицо.
– Какая гадкая женщина! И ваши родители не выставили её?
Прекрасные голубые глаза Каллиопы смотрят на меня с нескрываемым презрением.
– Выставили? У нас надо старухам плевать на хорошеньких маленьких девочек, приговаривая: «Тьфу, тьфу», – это чтоб оставить их красивыми и предохранить от злого глаза. Я потому осталась kallista[13] до сих пор, что моя мать в день крестин приказала накрыть стол ночью.
– Как так?
– А вот. На стол ставят много вещей для еды, и все ложатся спать. Тогда появляются миры.
– Кто?
– Миры. Их никто не видит, но они приходят, чтобы поесть. И надо ставить все chair, стулы… как вы говорите?., стулья вдоль самых стен, потому, если один из миров стукнется локтем, чтобы sit[14] к столу, он может дать плохое будущее маленьким детям.
– Как прекрасны ваши древние обычаи! Эти миры, как вы их называете, это что же – феи?
– Феи? Не знаю. Это миры… Ах, как разболелась моя голова.
– Не хотите ли таблетку антипирина? У меня есть в номере.
Каллиопа проводит по своему гладкому лбу рукой с покрытыми розовым лаком ногтями.
– Нет, спасибо. Это я сама виновата, я не сделала крестики.
– Какие крестики?
– Вот так, на подушке.
И она торопливо ребром ладони рисует на своём колене целый ряд маленьких крестиков и продолжает:
– Вы делаете маленькие крестики и быстро-быстро кладёте голову на это место, тогда плохие гости не приходят во сне, ни headache,[15] ни кто другой.
– Вы уверены?
Каллиопа пожимает плечами и встаёт.
– Да, уверена, но вы, вы народ без религии.
– Куда вы спешите, Каллиопа?
– Сегодня devtera… понедельник. Надо делать маникюр. Этого вы тоже не знаете! Делать маникюр в понедельник – это здоровье. Маникюр во вторник – богатство.
– Вы предпочитаете здоровье богатству? Как хорошо я вас понимаю.
Уже на ходу, придерживая обеими руками разлетающиеся во все стороны кружева, Каллиопа оборачивается ко мне и бросает:
– Я не предпочитаю… в понедельник я делаю маникюр одну руку, а во вторник – другую.
Между полуднем и пятью часами невыносимая жара обрушивается на отдыхающих. Большинство спасается в просторном холле казино, похожем на зал ожидания первого класса какого-нибудь современного вокзала. Растянувшись в креслах-качалках, эти бедняги флиртуют, пьют кофе глясе или дремлют под звуки небольшого оркестра, такого же полусонного, как и публика. Я стараюсь избегать этих однообразных развлечений, меня смущают нескромные взгляды окружающих, вульгарность Можи, шумливая возня десятков трёх детей, их нарочитая развязность.