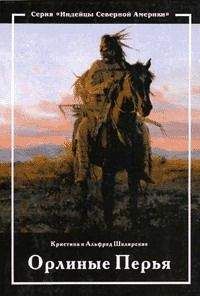Франсуа Шатобриан - Атала
Он не успел договорить, как неведомая сила принудила меня пасть на колени и склонить голову у изножья постели Атала. Священник открывает тайник, где под шелковым покровом стоит золотой сосуд, и простирается в благоговейном молчании. Пещеру словно озаряет нездешний свет, ее полнит пение ангелов и звуки небесных арф, а когда отец Обри достал священный сосуд из дарохранительницы, мне почудилось, будто гора разверзлась и я вижу самого Господа Бога.
Отшельник снял крышку с чаши, двумя пальцами взял белоснежную гостию и подошел к Атала, произнося слова, таящие непонятный мне смысл. Подобная святой, она застыла в экстазе, устремив глаза ввысь. Казалось, она уже не чувствует боли, вся жизнь сосредоточилась в открытых губах, трепетно принявших хлеб причастия; затем священник смочил тряпицу в священном масле и натер им виски Атала; несколько мгновений он смотрел на умирающую девушку, и вдруг у него вырвались дивной силы слова: «Лети, христианская душа, к своему Творцу!» Только тогда я поднял голову и, глядя на сосуд с маслом, спросил: «Святой отец, возвратит ли это снадобье мою Атала к жизни?» — «Да, дитя мое, — сказал он, обнимая меня, — возвратит к вечной жизни». Атала испустила последний вздох.
Тут Шактас вторично принужден был прервать свою повесть. Слезы потоком лились из его глаз, слова заглушались рыданиями. Слепой сахем расстегнул ворот, достал с груди крест Атала. — Вот он, — произнес Шактас, — этот дар злополучной судьбы! Рене, сын мой, ты видишь его, а я уже никогда не увижу! Скажи, не потускнело ли золото — ведь прошло столько лет? Нет ли на нем следов моих слез? Можешь ли ты разглядеть место, которого коснулись губы праведницы? Почему, почему Шактас до сих пор не принял христианство? Какая суета — все эти доводы, что так разумнее, лучше для его отчизны, во имя которых он упорствует в заблуждениях своих праотцев! Нет, больше я не стану медлить! Земля взывает ко мне: «Не пора ли сойти в могилу? Так что же ты мешкаешь, что же не обращаешься в истинную веру?» Тебе недолго меня ждать, земля! Как только священник окропит живительной водой эту убеленную горем голову, я уповаю, что соединюсь с Атала… Но сейчас я доскажу тебе свою историю.
Погребение
Не стану и пытаться, Рене, описать отчаянье, которое овладело мною, когда Атала скончалась. Нынче кровь моя оледенела, глаза ослепли; вот если бы им довелось вновь увидеть солнце, тогда они попросили бы у него счесть слезы, пролитые при его сиянии. Луна, что струит сейчас над нами лучи, устала бы озарять девственные земли Кентукки, река, что несет сейчас наши пироги, прекратила бы свой ток раньше, чем я перестал бы оплакивать Атала!.. Двое суток я был глух к увещеваниям священника. Стараясь умиротворить мою скорбь, этот мудрый из мудрых, пренебрегая суетными людскими утешениями, повторял одно: «Сын мой, такова воля Господня», и прижимал меня к груди. Никогда бы я не поверил, что в этих скупых словах такая целительная сила, если бы не испытал ее на себе.
Нежность, благость, неиссякаемое терпение старого священнослужителя победили наконец ожесточение моей скорби. Я устыдился слез, пролитых им из-за меня. «Отец мой, — сказал я, — не должно страданиям юноши смущать покой твоих дней. Позволь мне унести останки моей нареченной, я предам их земле среди безлюдной пустыни, и, если Шактас еще обречен жить, он постарается стать достойным нетленных брачных уз, которые пообещала мне Атала».
Увидев, что я столь нежданно обрел мужество, отец Обри весь просветлел и воскликнул: «О кровь Иисуса Христа, кровь Господа моего! Это Ты, это Твое чудотворство! Ты спасаешь юношу! Не оставляй же его, о Боже, верни покой смятенной душе, пусть от пережитых невзгод у него останутся лишь возвышенные и смиренные воспоминания!»
Праведный старец не согласился отдать мне тело дочери Лопеса; он предложил созвать своих новообращенных и торжественно предать ее земле по христианскому обряду, но на это не согласился я. «Никто не ведал ни о горестях Атала, ни о ее добродетелях, — так сказал я ему, — так пусть же никто не ведает, где ее могила, тайно вырытая нашими руками». И тогда мы решили похоронить ее завтра на рассвете под аркою моста, у входа в Сады смерти, а ночь провести в молитвах возле усопшей праведницы.
Когда начало смеркаться, мы перенесли драгоценные останки к северному входу в пещеры. Отшельник завернул тело в кусок льняной ткани, сработанной его матерью, — единственное достояние, которое он вывез из Европы и берег для собственных похорон. Мы устлали землю горной мимозой и уложили на нее Атала. Ноги, голова, шея, плечи моей возлюбленной были открыты, в волосах белел увядший цветок магнолии… тот самый, которым я украсил ложе девственницы, чтобы лоно ее было плодородно. Губы Атала, словно бутон розы, сорванный два дня назад, уже поблекли, но все еще улыбались. На щеках несравненной белизны голубели жилки. Прекрасные глаза были сомкнуты, ноги целомудренно сжаты, руки, точно высеченные из алебастра, прижимали к груди эбеновый крест, шею обрамлял нарамник. Казалось, зачарованная ангелом печали, она спит сном невинности и смертного упокоения; я никогда не видел столь неземной красоты. Когда бы на нее сейчас взглянул человек, не знающий, что эта девушка еще недавно радовалась солнечному свету, он принял бы ее за статую Спящей Непорочности.
Всю ночь священник читал молитвы. Я безмолвно сидел у изголовья смертного ложа моей Атала. Сколько раз она засыпала, положив мне на колени свою прелестную голову! Сколько раз я склонялся над нею, прислушиваясь к ее дыханию, упиваясь им! Ho сейчас эта грудь была недвижна, бездыханна, и я тщетно ждал пробуждения моей несравненной.
Луна бледным своим светочем озаряла наше скорбное бдение. Она взошла в полночь, подобная весталке в белом одеянии, которая пришла оросить слезами гроб усопшей подруги. Вскоре тайна ее печали излилась на леса — луне сладостно поверять ее вековым дубам и древним морским побережьям. Время от времени отшельник опускал цветущую ветку в освященную воду, потом стряхивал с нее влагу, и воздух полнился неземным благовонием. Порою он запевал старинную песнь, сложенную на слова поэта по имени Иов, жившего в незапамятные времена{22}; вот эти слова:
«Не сорванный ли листок ты сокрушаешь и не сухую ли соломинку преследуешь?
На что дан страдальцу свет, и жизнь огорченным душою?»
Так пел убеленный сединами старец. Голос его, задушевный и размеренный, далеко разносился в тиши пустынных просторов. Слова «Бог» и «могила» повторяло эхо, их повторяли леса, повторяли потоки. Воркование виргинской горлицы, грохот горной реки, звон колокола, созывающего путников, сливались с погребальными песнопениями, и, мнилось, хор тех, кто покоился в Садах смерти, издали ответствовал голосу отшельника.