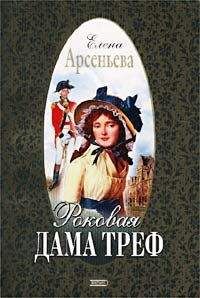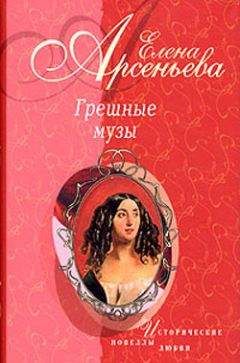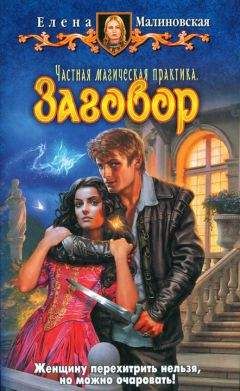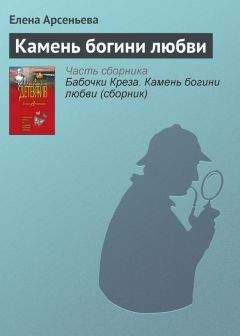Елена Арсеньева - Бог войны и любви
И все же они сдружились. Меркурий даже поведал Ангелине тайну своего происхождения: молоденькая крестьянка в муках родила его у стен монастыря — и умерла, замерзла на ноябрьском морозе. Монахи подобрали никому более не нужное дитя, окрестили его по имени святого мученика, коего поминали в тот день, и Меркурий вырос среди них вполне готовым для монастырской жизни, однако два года назад — ему едва исполнилось семнадцать — скончался ключарь [18], брат Арсентий, и перед смертью призвал Господа в свидетели греха своего: оказывается, именно он, тогда еще просто смиренный инок Арсентий, сбился с пути истинного и сбил с него красавицу Татьяну, а потом, убоявшись содеянного, бросил ее на произвол судьбы чреватою, так что монастырский приемыш Меркурий — чадо греха и его, Арсентия, сын.
Эта история потрясла юношу и странным образом отвратила его от монашеской стези. Он ощущал себя сосудом скудельным, средоточием неистовых страстей. Он мечтал о страданиях для искупления греха, доставшегося ему по наследству, а потому, прибавив себе недостающие лета, с восторгом предложил себя в рекруты взамен сына хозяйки того дома, где как-то раз остановился на ночлег во время своих странствий. Началась война. Полк, где служил Меркурий, стоял под Москвою — об этой поре своей жизни Меркурий почти не упоминал, — потом спешно был двинут на фронт. В первом же сражении Меркурий, тяжело раненный, уже не сомневался в скорой своей кончине, но, вдруг очнувшись и увидев прямо перед собою синие девичьи глаза, исполненные тревоги, почувствовал, что Господь простил ему родительский грех и в знак этого послал своего ангела. Ангелина с первого взгляда растрогала его сердце, по природе впечатлительное, а узнав ее имя, Меркурий взглянул на нее с каким-то суеверным ужасом — и Ангелина вновь ощутила некую странную, необъяснимую связь меж их душами и судьбами.
Впрочем, это все были только чувства, ощущения, догадки. Наяву в Меркурии не было ничего мрачного: ну, ранен, ну, изнурен, а духом бодр, нравом покладист, приветлив, поддерживает излюбленные рассуждения старого князя Измайлова о том, что, слава Богу, Кутузов в армии, продли Господь его жизнь и здравие, вместе с соседями он пел даже разудалую частушку про француза-супостата:
Летит гусь
На Святую Русь,
Русь, не трусь.
Это не гусь,
А вор — воробей!
Русь, — не робей,
Бей, колоти
Один по девяти!
Мог и весьма кстати процитировать Державина о Наполеоне:
Пусть всей земле он трепетанье
Принес, не изгибав чела,
Но злого рока приказанье
Придет — и будет он земля!
Однако чуть Меркурий пришел в сознание, он как бы напрочь забыл о «лодке-самолетке», образ которой неотступно преследовал его в бреду.
Общение с ним было приятно не только Ангелине. Удостаивали его своим вниманием и сестры из офицерской палаты, особенно Нанси, и даже — что было всего поразительнее! — сама мадам Жизель.
* * *Чем дальше шло время, чем сильнее разгорался пожар войны, тем настороженнее становилось отношение к французам. Гостеприимного дома мадам теперь избегали прежние завсегдатаи, даже Ангелине было как-то неловко, днем ухаживая за русскими ранеными, проводить вечера с соплеменницею тех, кто вверг в страдания их — и всю Россию. Однако мадам Жизель не переставала твердить, где только могла, что ненавидит «кровавое чудовище» (обычное прозвище Наполеона в ее устах), что молит Господа избавить Россию — ее вторую родину — от врага мира, что ей горька и обидна несправедливая ненависть русских, — и вот в один прекрасный день, одетая в простое холстиновое платье, с волосами, смиренно убранными под платок, она явилась перед княгиней Елизаветою с мольбою допустить ее до работы — пусть и самой черной! — в госпитале. Княгиня согласилась — более от изумления, нежели от восхищения таким порывом. Так ли, иначе — мадам Жизель оказалась в солдатской палате и довольно прилежно принялась за дело.
Раненые сперва дичились ее, да и она то и дело тянула носом из табакерки, не в силах скрыть брезгливость. Однако за несколько дней с мадам Жизель произошла диковинная перемена: нарумяненная кокетка неопределенного возраста бесследно исчезла, а на смену ей явилась приветливая «матушка Жиз» — еще не старушка, но вполне почтенная, заботливая, приветливая, самоотверженная женщина, которая умела успокоить самого расходившегося и нетерпеливого раненого своими песенками про пастушка Жана, или про Жаннет и белую козочку, или про разбитое сердце юного рыцаря, или про синие волны Дуная, по которым плывет шапка красавца гайдука, убитого предательски, а находит эту шапку его сестра и дает обет вечной мести… Песенки пелись то по-французски, то на каком-то вовсе непонятном языке, однако «матушка Жиз» весьма ловко перелагала их на русский, и эти баллады, и ее небольшой, но приятного тембра голосок успешно соперничали с разглядыванием множества лубочных картинок, на которых было изображено, как ополченцы Гвоздила и Долбила колошматили французов; надписи под картинами гласили: «Вот тебе, мусье, раз, а другой — бабушка даст!» — или: «Не дадимся в обман, не очнешься, басурман!» Эти картинки поднимали боевой дух, раненые твердили: «Скоро выздоровеем, потягаемся с французами. Мы видели их удаль, да где им устоять против штыков наших?!» — а песенки «матушки Жиз» смягчали сердце и потому нравились всем. Кроме Меркурия.
Юноша вызывал у мадам Жизель явную симпатию, но сам он питал к ней неприязнь, с трудом скрываемую лишь из вежливости. «Матушка Жиз» обожала выслушивать рассказы раненых об их воинских доблестях, чем доставляла им огромное удовольствие, — но стоило ей подступиться с расспросами к Меркурию, как он замыкался в себе и отмалчивался, а то и просто отворачивался к стенке.
— Русские, — обижалась «матушка Жиз», — не привыкли быть в беседе задушевными и говорить то, что думают!
Как-то раз она пожаловалась Ангелине:
— Этот солдат слишком дик! Он видит во мне la espionne [19]. Но, ma foi, il voit le diable on n'existe pas! [20]
Ангелина искренне любила мадам Жизель, но разве трудно было понять Меркурия, который не желал принимать помощь и говорить на одном языке с соотечественницей врага, опустошавшего его страну?
Возможно, осердясь на Меркурия, «матушка Жиз» сперва оставила свои расспросы, а потом, сказавшись больной, и вовсе исчезла из госпиталя. Раненые скучали по ее веселым песенкам; черноглазый бородач пенял Меркурию — мол, это его нелюдимость отпугнула ласковую «матушку Жиз». Меркурий по своему обыкновению отмалчивался, сосредоточенно глядя в окно, где бились-метались под ветром зеленые косы берез, в которые август уже начал кое-где вплетать бледно-золотистые ленты. Кто мог знать, о чем думал он, что лежало у него на сердце? Ангелине чудилось, что он разговаривает искренне только с нею. Лишь она знала о непрестанной внутренней борьбе, которая терзала Меркурия: христианин в нем не хотел ненавидеть врагов — этому противилась вся натура человека, воспитанного среди смирения и кротости, он просил Бога простить все их злодейства… однако Меркурию казалось, что с тех пор, как мир существует, ни в древней, ни в новой истории не сыщешь поступков, подобных действиям Наполеона против нашего Отечества. Он видел нищету, отчаяние, пожары, голод, все ужасы войны и с трепетом взирал на землю, на небо и на себя. Нет, он слишком болезненно воспринимал раны, нанесенные России, чтобы хоть минуту быть спокойным, чтобы вытерпеть здесь положенное для лечения время.