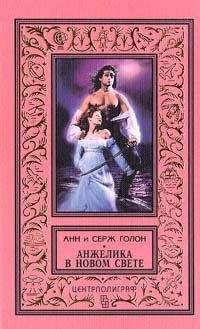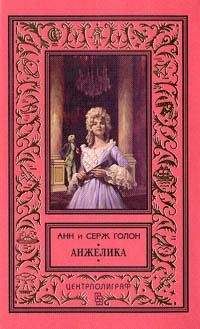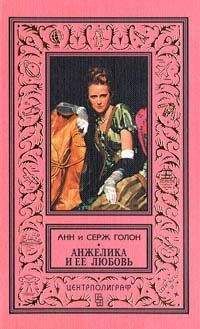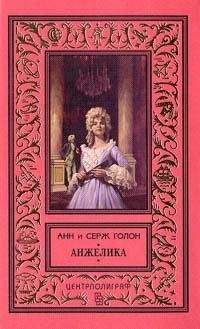Анн Голон - Анжелика в Новом Свете
Они проходили по краю прибрежного луга, у самой реки. Она внезапно повернулась к сыну.
— Я тебе уже сказала, что никогда нельзя унижать невиновных. И я повторяю это. Ты можешь ненавидеть меня, если тебе угодно. Но не ее. Она не просила меня о жизни. Но если бы ты осудил меня, ты был бы не прав!.. Не зная, что произошло, плохо, даже больше того — глупо изливать на других желчь своего сердца.
Она внимательно смотрела на Кантора, и он увидел, как постепенно темнели глаза матери и в них вспыхнул огонек ненависти, как он подумал, ненависти к нему, и это испугало его.
— Ты еще мальчик… — продолжала она. — Но скоро ты станешь мужчиной. Мужчиной, — повторила она мечтательно. — Ты будешь участвовать в войнах, мой сын, будешь сражаться жестоко, до конца… это хорошо. Мужчина не должен бояться сражений. И ты будешь входить в города как победитель, будешь праздновать свою победу и будешь во хмелю силой брать женщин… Но потом позаботишься ли ты о них, о своих жертвах? Нет! Такова война, не правда ли? Придет ли тебе в голову потом узнать, не умерли ли они от позора, не бросились ли в колодец? Нет! Ибо такова война! Так всегда было, так всегда будет, это я тебе говорю… «Когда полк со знаменщиком во главе вступает в город, женщины теряют честь…» Эти слова часто повторяла старая Ревекка. Вот скажи мне, что, по-твоему, остается делать женщине, которая носит под сердцем дитя войны? Что, ты думаешь, она могла бы сделать? Убить дитя или покончить с собой? Или родить? Вот и случается, что некоторые женщины рожают этих детей, воспитывают их, любят, хотят видеть их счастливыми, потому что они — дети. Ты понимаешь? Ты понимаешь?
Она с яростью повторила еще раз: «Ты понимаешь?» — в упор глядя на Кантора.
Потом отвернулась и стала смотреть в долину, нежную, шелестящую, которая раскинулась перед ними.
«Если он не понимает, если он бесчувствен, как камень, тем хуже! — думала она. — Тем хуже для него! Пусть уезжает, пусть становится бессердечным, грубым, жестоким солдафоном… пусть уезжает. Кажется, я сделала все, что могла». Она подождала немного и заставила себя снова взглянуть на сына. И увидела, что у него дрожат губы.
— Если это так, — сказал он хриплым голосом, — если это так, тогда… мама… прости меня, прости! Я не знал…
Он бросился перед нею на колени и, закрыв лицо руками, громко разрыдался.
Она не ожидала этого и исступленно сжала его в своих объятиях. Она гладила его волосы и машинально повторяла:
— Успокойся! Это пустяки… Успокойся, малыш!
Как прежде, когда он был маленький. Она вспоминала, какие мягкие, нежные волосики были у него тогда, а сейчас они стали жесткие и очень густые.
— Успокойся, — повторяла она, — не надо плакать… Прошлое не должно больше заставлять нас страдать. Мы целы и невредимы. Кантор. Мы вместе, мы живы, мы все и были рождены для того, чтобы быть вместе, это судьба нас разлучила. Но теперь мы вместе, вот единственное, что важно для меня!.. Не надо плакать…
Он понемногу утих. Она успокаивала его, властной и нежной рукой отодвигая от него несчастье, угрызения совести, она повторяла ему, что только жизнь имеет значение, что для нее жить со своей семьей — истинный рай, и разве счастье вновь обрести сына, которого она столько лет считала мертвым и которого столько оплакивала, не вознаграждает ее с лихвой за некоторые трудные стороны характера ее Кантора? Он робко улыбался, еще не осмеливаясь поднять голову. А она прижимала его к своему сердцу, пронизанная чувством, что это ее сын, частичка ее самой, и что она еще долго и много будет полезна ему благодаря тому таинству родственных уз, которые связывают их и которые ничто не может заменить.
Кантор отстранился от матери, но, прежде чем подняться, посмотрел на нее. Он стал вдруг серьезным, и эта серьезность изменила его, сделала намного старше.
— Прости меня, — повторил он.
И ей показалось, будто он просит у нее прощения от имени всех мужчин. Она взяла в свои руки его юное лицо.
— Я прощаю тебя, — сказала она тихо, — я прощаю тебя.
Потом, когда он поднялся, она вдруг рассмеялась.
— Разве не смешно? Ты на полголовы выше меня.
И в тот момент, когда они стояли, еще потрясенные, стараясь прийти в себя, Анжелика услышала, как лесное эхо продолжает бесконечно повторять рыдания Кантора.
Это был какой-то непостижимый феномен. Она подумала сначала, что ей просто это чудится от волнения. Но тут же она отметила про себя, что эхо какое-то очень странное, просто удивительное. Вместо того чтобы удаляться и затихать, рыдания приближались. И тотчас к ним применились хнычущие голоса, стенания.
— Ты слышишь? — спросила она сына, который тоже вскинул голову.
Он утвердительно кивнул и с инстинктивным благоразумием быстро увлек ее под купу деревьев — укрыться. Кто-то разговаривает, кто-то рыдает в таком пустынном месте!..
— Тихо, Кантор!
Голоса приближались, и уже можно было различить шум шагов — несколько человек шли в высокой траве.
На берегу, у излучины реки, показался индеец. Он был высок ростом, с лицом цвета обожженной глины, обезображенным белыми и красными шрамами — следами войн, с блестящими волосами, украшенными кусочками меха, перьями и иглами дикобраза. В руках он держал мушкет. Мокрое одеяло словно давило ему на плечи. Ведь еще утром лил дождь, а этот индеец явно пришел издалека. Должно быть, он не останавливался даже во время ливня. Он шагал медленным, размеренным шагом, опустив голову, и выглядел усталым. Он держал путь вдоль берега.
Индеец уже приближался к тому пригорку с купой деревьев, за которыми спрятались Анжелика и Кантор, и они, зная, какое тонкое обоняние у индейцев, боялись, как бы он не обнаружил их.
Но на лужайке появилась еще группа людей. Второй индеец, потом, опираясь на него, белая женщина в лохмотьях, с растрепанными волосами и перепачканным грязью лицом. Другая женщина брела следом. На руках у нее был ребенок лет двух. Это его плач слышали Анжелика и Кантор. Мать ребенка, совсем обессилевшая, двигалась, словно сомнамбула. Затем они увидели еще двух индейцев, один из них нес мальчика лет пяти-шести, другой — девочку чуть постарше, которая то ли спала, то ли была в беспамятстве. За ними плелся белый мужчина, поддерживая другого белого, оба в отрепьях, в разорванных рубашках, с лицами и руками, располосованными царапинами, потом — мальчик лет двенадцати, одуревший от усталости, нагруженный, словно осел, всевозможными тюками и различной домашней утварью, вплоть до венчавшего тюки медного кувшина. И наконец последним торжественно шествовал важный индеец, который размахивал томагавком, как бы подгоняя всю группу.
Странный, вызывающий сострадание кортеж прошел мимо Анжелики и Кантора, но никто их не заметил. Индейцы и сами выглядели очень утомленными.