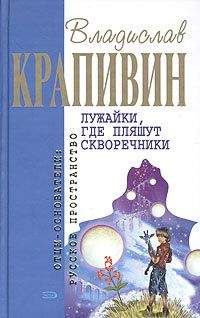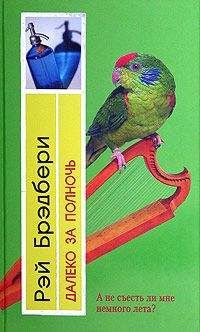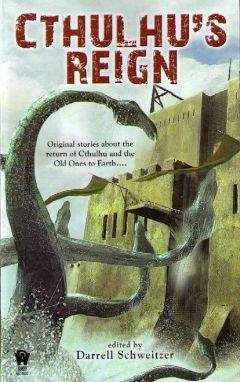Вирджиния Нильсэн - Колдовские чары
Пытаясь размышлять трезво, она представила себе длинную вереницу годов, которые ей предстояло прожить в одиночестве как хозяйке и единственной обитательнице ее любимого поместья "Колдовство", мечтая при этом о муже Клотильды, и тогда она дала себе два зарока: она непременно расстроит этот предполагаемый брак любыми доступными ей средствами, и она подавит в себе невыносимое влечение, которое она испытывала к Филиппу де ля Эглизу.
Наконец к утру она впала в изнурительный сон.
Солнце уже было высоко, когда в спальню вошла дочь Мими. Балансируя с большим подносом на руке, на котором стояла чашка кофе с молоком и лежали булочки, она наконец-то поставила его на столик возле кровати. Минетт отбросила противомоскитную сетку.
— Солнце уже встало, мамзель, — пропела она и пошла открывать ставни на окнах, выходящих на галерею.
— Разве Мими не научила тебя, как следует будить свою госпожу? — сердито спросила Анжела.
— Ах, мамзель, но моя госпожа не любит долго спать, — дерзко ответила девочка. — Ей нравится выезжать на лошади ранним утром по холодку.
Девочка взрослела прямо на глазах. Грудки по-прежнему у нее напоминали нераскрывшиеся бутоны, а в маленьких выступающих ягодицах было что-то бесстыдное. Сколько же ей было лет? Тринадцать или четырнадцать?
Глядя на нее, Анжела вспомнила о беге времени и о своих годах. Она помнила, когда Минетт родилась — сразу же после их приезда в Луизиану после всех страшных, выпавших на их долю испытаний в Санто-Доминго. На руках Мими уже держала своего младенца Оюму. Теперь ей вдруг пришло в голову, что, когда они совершали это опасное путешествие из Вест-Индии, в своем чреве она уже носила будущую Минетт.
Как обычно, она гнала от себя мысли о Минетт, чье появление на этом свете стало ее первым опытом деторождения. Ей было десять лет, когда ее мать лежала при смерти. Оставленная на некоторое время всеми без присмотра, она отправилась в невольничий квартал, чтобы разыскать там Мими, но неожиданно стала свидетельницей чудовищной картины рождения ребенка в освещенной свечами комнате, откуда она выбежала в беспамятстве. Потом она помнила только одну стену в своей спальне, где ей пришлось перенести ужасную болезнь. С тех пор в ее сознании постоянно давала о себе знать неуловимая неприязнь, которую она испытывала к дочери Мими.
Ее отец, который был очарован кошачьими повадками Минетт, испортил маленькую рабыню, с горечью подумала Анжела. Минетт не была такой послушной, как ее брат Оюма. В ней было много озорства, у нее было чувство независимости, но с такими качествами могли мириться далеко не все рабовладельцы. Она, конечно, будет невыносимой, когда вырастет.
— Мама говорит, чтобы я помогла вам одеться, — сказала Минетт робким голоском, в котором чувствовалась нотка детской гордости.
— Ты мне не нужна, Минетт, — резко бросила Анжела, отвернувшись от мгновенно расстроившейся девочки.
Надев свою самую легкую амазонку[6], она спустилась по лестнице в холл, где Мими с целой армией чернокожих женщин занимались уборкой после бала. Анжела приказала оседлать ее кобылу и, надев соломенную шляпку, спасающую от палящего солнца, отправилась верхом на канал, чтобы проследить, как там идут ирригационные работы.
Утро выдалось сырым, каким-то ленивым, но все рабочие были в веселом настроении. Вчерашний бал в ее доме коснулся и их. Музыка звучала и в невольничьих кварталах, там тоже танцевали, к тому же рабам отдали остатки изысканной еды с господского стола, так как она все равно быстро испортилась бы при таком жарком климате. Бодрые песнопения помогали работе, копка шла активно, все улыбались, раздавались добродушные колкие шутки в адрес Жана-Баптиста, ее сурового надсмотрщика — мулата-полукровки.
Обсудив с ним ход работ, Анжела направила свою кобылу Жоли назад, к дому. Было около десяти, и в это время она обычно пила кофе на галерее.
По дороге Анжела разглядывала высокую, колышущуюся в лучах раннего солнца стену сахарного тростника, уже слегка запорошенного пыльцой из только что раскрывшихся султанчиков лаванды. На душе у нее потеплело. Скоро большое каменное колесо начнет вертеться, измельчать тростник, а пока оно лежало без движения на своем широком круге на земле и его накаляло солнце. Из невольничьего квартала в тени деревьев, высаженных ее отцом, до нее донеслись приглушенное кудахтание кур, визги и смех гонявших их детишек. За хижинами уже показались белые колонны галереи второго этажа, величественные и прекрасные. Прохладное убежище манило ее чашечкой утреннего кофе, который она спокойно выпьет, может быть, в компании какого-нибудь посетителя, явившегося к ней по делу.
Проехав жернов, она вдруг увидела одинокого всадника, показавшегося из-за хижин. Он явно направлялся ей навстречу. Она узнала жеребца своего дяди, но в седле был не он. Кровь прилила ей в голову. Она чуть не задохнулась от возмущения, — еще бы! — этот маркиз имеет наглость явиться к ней сам, и так скоро!
Но тут же она благословила предоставившуюся ей возможность сейчас же сделать то, что она намеревалась предпринять. Пришпорив свою лошадь, она помчалась навстречу маркизу. Увидев ее, он лишь улыбнулся, приветственно подняв руку.
— Доброе утро, мадемуазель.
Анжела бросила на него холодный взгляд, не отвечая на приветствие.
— Я не ожидала встретить вас, месье, в такой ранний час после вчерашнего бала, ведь он завершился за полночь. Но я рада нашей утренней встрече, так как мне нужно сообщить вам кое-что весьма важное.
— Мне тоже, мадемуазель.
Он без какого-либо напряжения элегантно держался в седле. У него была чистая, розоватого оттенка кожа, в глазах пропала волнующая сердца женщин меланхолия, и они уязвительно ярко сияли на утреннем солнце. Его жеребец проявлял беспокойство, а Жоли нервно кружилась на узкой дорожке. Одарив ее загадочной улыбкой, Филипп подвел своего жеребца поближе, потом еще ближе, пока лошади не коснулись боками друг друга. Жоли вздрогнула и замотала головой, а Анжела вся вспыхнула от раздражения.
— Вот что я хотела вам сказать, — холодно начала она. — Вы не сделаете предложения моей кузине Клотильде. Должна предупредить вас, что если вы будете упорствовать и продолжать ухаживать за ней, мне придется рассказать дяде подробно обо всем, что между нами произошло сегодня ночью.
У него забегали глаза.
— Обо всем? — спросил он.
Она вдруг почувствовала укол сладостной боли в своей помятой груди, а щеки ее зарделись.
Блеск его глаз теперь говорил ей о едва сдерживаемом желании рассмеяться.