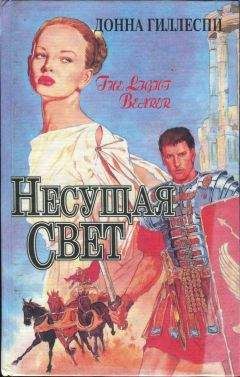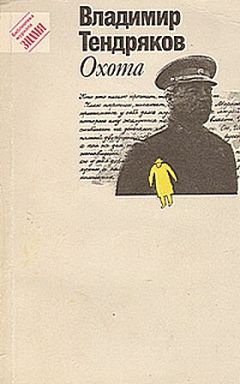Донна Гиллеспи - Несущая свет. Том 3
— Прости меня! — прошептал он. — Не я обрек тебя на смерть. У меня не было иного выбора, кроме как идти с ними. Ты должен знать своего убийцу. Все это задумал и подготовил Марк Аррий Юлиан.
И в этот момент Парфению показалось, что душа вылетела из тела Домициана, словно смертельный удар Императору был нанесен этими словами, а не кинжалом, которым Циклоп аккуратно перерезал ему горло.
Домициан не почувствовал боли. Еще некоторое время его мозг продолжал работать.
«Итак, Марк, дружище, ты выиграл пальмовую ветвь. Ты — царь, а я остался в дураках. Думаю, что ты теперь испытываешь огромное наслаждение от того, что твой план удался не благодаря грубой силе, а благодаря твоей хитрости и невероятному терпению. Должно быть, это отняло у тебя целые годы. Ты был одержим манией убить меня. Лишь поэтому тебе удалось совратить преторианцев, мой двор, мою жену и вне всякого сомнения — Сенат. Ты добровольно обрек себя на пытки, лишь бы твой зловещий умысел не стал известен раньше времени. В тебе говорила ненависть эпических пропорций. Да, когда-то ты уважал меня, но это чувство было кратковременным и неустойчивым. Что заставило этот огромный и таинственный разум восстать против меня и спланировать это убийство? Если ты думаешь, что я хоть что-то понимаю, ты ошибаешься. Нет, мне ничего не понятно. Не обольщайся этой якобы достойной и благородной победой, Марк. Я умираю так, как умер Аристос, которого погубило подлое жульничество».
В спальню ворвался Сервилий. С обнаженным мечом он ринулся на пятерых убийц, которые все еще стояли на коленях, склонившись над телом Домициана. Стефанию выпало несчастье первым оказаться на его пути. Сервилий мгновенно расправился с ним, поразив метким ударом прямо в сердце. Не успел Стефаний повалиться на тело Домициана, как здесь уже оказались преторианцы Петрония, которые обезоружили Сервилия, рухнувшего под ударами их щитов и кулаков.
Остальные убийцы — Клодианий, Циклоп, Парфений и Сатур — были похожи на людей, которых грубо растолкали и заставили очнуться от одного кошмара, чтобы тут же погрузить в другой. Они медленно встали и с дрожью в коленях стали отодвигаться от страшного месива того, что несколько минут назад было Домицианом.
Преторианцы быстро заполнили помещение спальни. Заговорщики беспрепятственно добрались до двери. Легионеры мрачно наблюдали за ними в зловещей тишине, испытывая противоречивые чувства. Они не могли не презирать этих людей, запачкавших свои руки, их мучил стыд за то, что убийцы спокойно уходят, а они не могут их задержать. Разве можно отпускать злодеев, если на их руках еще не высохла кровь жертвы? И в то же время им было неудобно осознавать себя неблагодарными бездельниками. Ведь это убийство было подвигом, эта четверка отважилась убить тирана, и за это они должны были вынести их отсюда на плечах как героев.
Легионеры, стоявшие в прихожей, расступились, чтобы пропустить убийц. Выйдя в коридор, все четверо бросились бежать. Двое побежали к восточному выходу, двое — к западному. Яростное стаккато их удаляющихся шагов звучало для солдат насмешливым упреком: «Вы отпустили нас, дураки, вы нас отпустили!» Сервилий стал вырываться из рук легионеров Петрония и завопил во весь голос.
— Вы что, обезумили все? Немедленно в погоню за ними!
Все эти крики казались Домициану не более, чем воркование голубей. Его многочисленные раны ощущались не более, чем ушибами и совершенно не болели, если не шевелиться. Ему теперь совершенно не хотелось сопротивляться. Он чувствовал, как все дальше и дальше, кругами, подобными кругам на воде, в нем расходятся умиротворение и покой. Ему казалось, что все его тело погружается в теплую и приятную жидкость. Затем эта жидкость внезапно превратилась в толпу призраков, обступивших его со всех сторон, шептавших, трогавших его своими руками. Затем в его жилах заструилась замечательная морская вода, которая освободила его от тени и стала быстро поднимать его вверх. Домициан вообразил, что его сознание слилось с мудрым разумом Минервы. Теперь он мог ощущать все прошлое и настоящее с такой необычной, пугающей силой, что вся его жизнь оказалась чем-то вроде прозрачного водоема, дно которого было прекрасно видно на глубине сто саженей.
«Я был безумцем и не знал этого. Я думал, что иду по жизни в одном направлении, удаляясь от своих начал, где я чувствовал себя еще более никчемным, чем раб-убийца, сосланный в рудники. Однако я был как ослик с завязанными глазами, который ходит по кругу, крутя жернова. Я ступал по одной тропе всю жизнь, но всегда думал, что сменил ее. Все и всех я воспринимал одинаково — мне было неведомо многообразие жизни. Теперь я вижу, как мой отец и Марк Юлиан наблюдают за мной одними и теми же глазами, одним и тем же проницательным, проклинающим взглядом, от которого во рту становится горько. Марк, ты напоследок сказал, что я ожидал от тебя измены. Ну конечно же. Мой отец был первым в этом ряду предателей, а ты всего лишь его последователь. Мы все рождаемся опутанными узами проклятий, и редко кому удается выпутаться из них. Я, во всяком случае, не принадлежу к числу последних. С самого начала моя ревнивая ненависть была построена на страхе великого холода. Однако великого холода не существует. Почему я жил так? Я растратил свою жизнь как некто, родившийся богатым, но промотавший свое состояние в дурацких кутежах».
Призрак Домициана ощутил смятение и страх в умах людей, суетившихся вокруг его тела, этих маленьких, беспокойных, испуганных зверьков, попавших в ловушку внутри своих тесных черепов. Он же наслаждался своей свободой, не осознав еще в полной мере факта своей смерти. А когда он понял это, то «смерть» приобрела для него совершенно иное значение, нежели час тому назад.
«Вы, бедные насекомые, копошащиеся вокруг и притворяющиеся занятыми очень важными делами, вы освободили меня! Вы промучаетесь в суете мирской жизни лет пятьдесят или больше, пытаясь все это время в ужасе избежать того, что нисколько не страшно. Вы воздвигаете памятники смерти, почитая ее своим страхом. Я не завидую вам, тем, кто еще обладает жизнью».
Петроний склонился над телом Домициана, пересчитывая его раны. Двадцать семь. Затем он стал с трудом стаскивать кольцо с еще теплого, но уже вялого и безжизненного пальца Императора. В этот момент его охватил суеверный ужас. Эти страшные руки никогда больше не напишут еще один указ, который, например, изменит весь уклад жизни в какой-нибудь деревне Баэтики или повлияет на события в городах, расположенных в долине Нила. Тело, которое познало все наслаждения, которые только может дать жизнь, не испытывает больше ничего. Последний отпрыск династии Флавиев, принесших мир всему миру, построивших Колизей, превратился в бездушную плоть, которая вскоре будет смердить и разлагаться и которой будет посвящено целых несколько строчек в трудах историков.