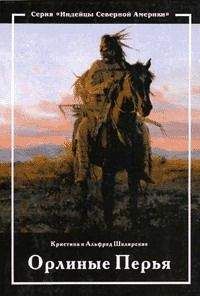Франсуа Шатобриан - Атала
«Чтобы спасти тебя! — голос старца был словно раскат грома. — Чтобы укротить твои страсти и отвести гнев Господень от богохульника! Как пристало сетовать на невзгоды тебе, зеленому юнцу, едва вступившему в жизнь! Но где они, следы твоих страданий? Какие несправедливости ты претерпел? Какими отличен добродетелями?.. А что, кроме них, дает хотя бы подобие права на сетования? Кому ты оказал помощь? Какие милосердные дела совершил? О жалкий человек, у тебя только и есть что твои страсти, и ты еще смеешь корить небо! Если бы тебе пришлось, как отцу Обри, тридцать лет прожить в горах, вдали от родины, ты не был бы так скор на осуждение Господнего промысла, ты понял бы тогда, что ничего не знаешь, ничего не стоишь, что нет кары столь суровой, горестей столь тяжких, которых не заслужила бы людская порочная плоть!»
Глаза его метали молнии, борода развевалась, слова разили как стрелы, он сам в этот миг уподобился Богу. Потрясенный величием старца, я пал на колени, прося прощения за безрассудную вспышку. «Сын мой, — сказал он так ласково, что меня уязвила совесть, — не из-за себя я так сурово выговаривал тебе. Увы, дитя мое, ты прав, я мало сделал для обитателей этих лесов, и нет у Господа слуги нерадивее. Но помни, что бы ни случилось, мы не смеем винить небо! Прости, если я обидел тебя, но давай выслушаем твою сестру. Может быть, не все еще потеряно, будем надеяться на лучшее. Подумай, Шактас, как неизреченно прекрасна та вера, которая среди добродетелей числит надежду!»
«Юный мой возлюбленный, — снова заговорила Атала, — даже ты, свидетель моей борьбы с собой, многого не видел; глубину сердца я от тебя таила. Чернокожий раб, чей пот орошает раскаленные пески Флориды, даже он страдает меньше, чем страдала Атала. Я уговаривала тебя бежать и при этом знала, что не перенесу разлуки с тобой; страшилась бежать вдвоем по этим безлюдным просторам и при этом жаждала лесного укромного сумрака… Если бы пришлось всего-навсего покинуть родных, друзей, отчий край, даже если бы пришлось — о, ужас! — загубить свою душу!.. Но передо мной всегда стояла тень матери, она укоряла меня за свои вековечные муки! Она стенала, адское пламя пожирало ее, я это видела, я это слышала! Ночи жестоко терзали меня видениями, дни были безрадостны; вечерняя роса высыхала, коснувшись моей пылающей кожи, я раскрывала губы навстречу ветру, но ветер не приносил прохлады, он раскалялся от моего дыхания. Какая мука — беспрестанно видеть тебя, знать, что кругом нет ни единого человека, что никто не нарушит нашего уединения, и все-таки чувствовать непреодолимую преграду меж нами! Провести жизнь у твоих ног, быть твоей рабыней, стряпать для тебя, готовить тебе ложе в каком-нибудь неведомом людям уголке, земли — вот оно, высшее счастье, и оно было рядом, и все равно недостижимо! Сколько замыслов роилось у меня в голове! Сколько мечтаний укрывалось в этом горестном сердце! Когда я глядела на тебя, меня порою обуревали желания, равно безрассудные и преступные: то мне хотелось, чтобы на земле только мы с тобой и существовали, то, ощущая волю Божества, ставящую препону моим неистовым порывам, я желала его погибели, лишь бы падать в твоих объятиях из бездны в бездну вместе с обломками этого Божества и всей вселенной! Даже сейчас… какими словами сказать об этом?., даже сейчас, когда вечность уже поглощает меня, когда я должна предстать перед неумолимым судией и радуюсь, что исполнила волю матери, принесла жизнь в жертву непорочности… в это самое мгновение я, чудовищно противореча себе, все-таки уношу в могилу сожаление, что так и не стала твоей…»
«Ты ослеплена отчаянием, дочь моя, — прервал ее священник. — Неистовая страсть почти всегда безрассудна, более того, она чужда человеческой природе, поэтому Всевышний снисходителен к одержимому ею, она говорит скорее о затуманенном разуме, чем о порочном сердце. Уйми эти исступленные порывы, они пятнают твою чистоту. К тому же, дорогое дитя, твое необузданное воображение преувеличило нерушимость обета, которым ты себя связала. Христианская вера не требует жертв, превышающих человеческие силы. Ей нужны подлинные чувства, идущие от сердца добродетели, — она их ставит куда выше чувств взвинченных и принужденных добродетелей показного героизма. Случись вам пасть, бедные заблудшие овечки, добрый пастырь нашел бы вас и вернул в стадо. Сокровища раскаяния были открыты вам: это людям нужны потоки крови для искупления греха, Богу довольно одной слезы. Не терзай себя, дочь моя, ты больна, тебе нужен покой; лучше всего помолимся Всевышнему, он исцеляет раны слуг своих. Если Его волею ты оправишься от недуга, а я уповаю на это, то немедленно отпишу квебекскому епископу{18}: он властен разрешить тебя от обета — ты ведь не приняла пострига, — и вместе с Шактасом, твоим супругом, вы заживете здесь, вблизи меня».
При этих словах старца Атала забилась в судорогах; когда припадок кончился, она впала в неописуемое отчаянье. «Значит, надежда была! — воскликнула она, горестно стиснув руки. — Меня разрешили бы от обета!» — «Да, дочь моя, — ответил святой отец, — это и сейчас не поздно сделать». — «Нет, поздно, слишком поздно! — сказала она. — Как это страшно — в тот миг, когда умираешь, узнать, — что счастье — вот оно, рядом!.. Почему, почему я не встретилась с этим святым старцем раньше! Каким счастьем я наслаждалась бы сегодня с тобою, с Шактасом-христианином!.. Утешенная, обнадеженная благим служителем Бога… здесь… в глухом краю… Весь свой век… Но такое блаженство не для меня!» — «Успокойся! — взмолился я, сжимая ее руку. — Мы еще будем счастливы». — «Никогда, никогда!» — вымолвила Атала. «Но почему?» — допытывался я. «Ты не все знаешь! — воскликнула моя непорочная возлюбленная. — Вчера… во время грозы… я почувствовала, что нарушу обет… предам мать пламени преисподней… ее проклятие уже тяготело надо мной… Уже я была грешна перед Богом, который спас мне жизнь… Ты целовал мои трепещущие губы, не подозревая, что целуешь обреченную на смерть». — «Боже! — вскричал миссионер. — Дочь моя, что ты такое сделала?» — «Совершила преступление, отец мой, — ответила Атала; взор у нее блуждал, как у безумной. — Но погубила только себя, а моя мать спасена». Страшное предчувствие сжало мне сердце. «Объясни, объясни же, что это значит?» — «Так вот, я боялась, что не устою, и, уходя из поселка, взяла с собой…» — «Что ты взяла?» — в ужасе спросил я. «Яд!» — ответил за нее отец Обри. «Да, я приняла яд», — молвила Атала.
Священник роняет факел из рук, я в беспамятстве припадаю к дочери Лонеса, старец обнимает нас обоих, и мы в этой тьме, на этом смертном ложе смешиваем наши горючие слезы.
«Что же это мы! — через несколько мгновений сказал мужественный отшельник, зажигая фонарь. — Нельзя терять драгоценное время: мы христиане — значит, не сдаемся превратностям судьбы. Даже с веревкой на шее, даже на горящем костре, мы припадаем к стопам Всевышнего и молим о снисхождении, но с покорностью принимаем Его приговор. Может быть, все-таки еще не поздно. Дочь моя, тебе следовало сказать мне вчера».