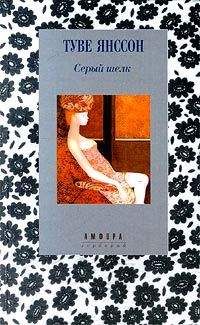Анастасия Туманова - Цыганочка, ваш выход!
Четверо их было – трое братьев и отец. Матери Беркуло почти не помнил: она умерла, родив его младшего брата. Отец в это время сидел, и Беркуло с братьями воспитывали тётки. Тёток было четыре, и у трёх мужья тоже сидели в тюрьмах. Но что было поделать, если ничем, кроме воровства, мужчины табора кишинёвцев не занимались? Кишинёвцы не лудят посуду, как котляры, не зарабатывают меной и продажей лошадей, как русские цыгане, не водят медведей на забаву базарам, не режут ложек… Кишинёвцы – лихие люди. Их дело – промышлять по купеческим карманам на постоялых дворах, залезать по ночам в богатые дома. А если проснётся хозяин – глушить по башке дубинкой. И не держать это за грех. Потому что ничего хорошего от богатеев кишинёвцы не видели ещё со времён своей подневольной жизни в Бессарабии.
Когда-то прапрадед Беркуло, Мунзул, сильный и ловкий цыган, не захотел, чтобы с его женой проводил ночи молдавский боярин. Мария была кочевой цыганкой, взятой в боярские хоромы за несказанную красоту. Ни она, ни Мунзул не могли спорить: своей воли у бессарабских цыган не было. У каждого бродячего табора имелся тогда хозяин, который мог сделать со своими цыганами что угодно. Любой боярский двор был полон цыган-рабов, которые выполняли всю тяжёлую работу. Цыганки служили утехой и для хозяина, и для его управляющих. Непокорных быстро усмиряли кандалами и плетьми. Непокорной оказалась и Мария, которая кусалась и отбивалась до последнего и даже связанной ругалась и плевала в лицо боярину так, что взбесила его. Мунзул в это время рычал, как бешеная собака, в погребе боярского дома. Он слышал, как кричала Мария, слышал, как её били кнутом по босым пяткам, как после отволокли в сарай. Он знал: утром боярин снова придёт к ней. Этот христопродавец сделал правильно, связав Мунзула кожаными ремнями перед тем, как вдоволь наиздеваться над его женой. Но то ли ремни были гнилыми, то ли у Мунзула от отчаяния утроилась его знаменитая сила, он разорвал эти путы ночью. И голыми руками вырвал проржавевшую решётку из окна погреба.
На тёмном дворе никто не остановил его – а кому было останавливать, если сторожами были такие же цыгане, ничего хорошего не видавшие от своего господина? Мария, лежавшая в углу сарая, не могла даже плакать от боли – и Мунзул покинул боярский двор с женой, висящей через его плечо, как перемётная сума. Ушёл в темноту – и никто его больше не видел. И его не смогли найти ни господин, ни полиция. Мунзул ушёл из Бессарабии в незнакомую, чужую русскую землю.
Было это давным-давно, и Беркуло не знал: много ли выдумки было в этом рассказе о лихом прапрадеде – «гайдуке Мунзуле», по имени которого звался весь их род мунзулешти. Но отец эту историю любил и мог рассказывать её сыновьям хоть каждый вечер, неизменно утверждая в конце: «Прав был Мунзул, господ жалеть нечего! Они – собаки, а у сукина сына воровать не грех!» Маленькому Беркуло и в голову не приходило усомниться в этих словах. Тем более что в таборе кишинёвцев, колесящем по Украине, отца все уважали – за его силу, за смелость, за удачные кражи, за то, что щедро делился добычей. Воровал отец вместе со своими братьями – они «чистили» по ночам богатые купеческие дома, и долгое-долгое время удача была с ними. Но в конце концов счастье их кончилось. В Киеве, в доме богатого купца, троих братьев накрыли с поличным. Всех отправили на каторгу. Двое вернулись, а отец Беркуло так и сгинул в холодных краях.
На свою первую кражу Беркуло пошёл, когда ему едва исполнилось двенадцать лет. Толку, конечно, от него тогда было мало: старший брат Мирча просто поставил его у высоких, без единого просвета ворот и велел свистеть «если что». Взрослые цыгане, сжимая верные дубинки, бесшумно просочились на двор. И до сих пор Беркуло вспоминал ту душную, безлунную ночь – пахнущую жасмином из чужого сада, полную невнятных шорохов, каждый из которых мог нести в себе опасность. Беркуло помнил смутные блики на распахнутом настежь окне дома, помнил, как растворился в этой ночи, как сам стал и темнотой, и душным воздухом, и запахом цветов, как всё это проходило сквозь него жгучими и острыми волнами. И этого странного, пьянящего, ни на что не похожего чувства опасности, сильнее которого он в жизни своей не испытывал, Беркуло уже не мог забыть. Позже он понял, что приходит оно только ночью, только возле чужого дома, в который ты с минуты на минуту войдёшь – и бог знает, выйдешь ли, потому что счастье долго не пляшет.
Та, первая кража прошла удачно, цыгане покинули тёмный дом с тяжёлыми узлами, той же ночью табор снялся с места и быстро ехал по пустой дороге до рассвета. Добытое разделили на всех. Мальчишка Беркуло получил свою долю наравне со взрослыми, выпил с ними вина и, с непривычки быстро захмелев, попытался рассказать о тех странных, острых ощущениях, которые охватили его ночью у ворот. Рассказал, должно быть, спьяну плохо, потому что цыгане заржали. Но брат Мирча, сердито рявкнув на остальных, усмехнулся и хлопнул Беркуло по спине: «Всё верно, парень! Так и быть должно, ночное дело всегда хмельное! Настоящим гайдуком будешь!» А Кежа, его жена, втихомолку заплакала и, чтобы никто не увидел её слёз, взяла ведро и пошла к реке. Беркуло едва удержался, чтобы не обернуться ей вслед.
Такой красавицы, как жена Мирчи, ни Беркуло, ни другие цыгане его маленького табора не видели. Беркуло – была бы его воля – вовсе никогда бы не отворачивался от её смуглого, строгого лица (улыбалась Кежа редко), от зелёных громадных, как у речной русалки, глаз, от вьющихся волос, пушистыми прядями выбивающихся из-под платка. Мирча любил жену, не жалел денег ей на подарки. Пальцы Кежи всегда были унизаны кольцами, многоярусные серьги свисали до плеч на зависть другим цыганкам. Но подарки, казалось, не радовали её. «Всё бы выбросила и нового бы не попросила, лишь бы ты в тюрьму больше не сел», – говорила она мужу. Но Мирча только отмахивался от бабьих глупостей и раз за разом отправлялся на опасные дела. Беркуло шёл за ним не задумываясь. Их младший брат тогда ещё бегал голышом по табору, но обещал, что, когда вырастет, будет таким же лихим гайдуком.
Первый раз Беркуло сел в тюрьму в шестнадцать лет. Отсидел два года, а выйдя, сразу же женился, надеясь хотя бы так избавиться от неотвязных мыслей о Кеже. Будущую жену он увидел на ярмарке в Харькове – маленькую девчонку лет пятнадцати, черноглазую, с широкой улыбкой, с блестящими белыми зубами – а много ли ему надо было тогда? Ему, только вышедшему из тюремных стен? Они с той девчонкой переглянулись только – а ночью она уже ушла в его табор. Когда поутру её разгневанные родственники прибежали к палаткам, рубашка молодой жены с цветущей «розой» уже висела у входа в шатёр. Родне оставалось только вздохнуть, перекреститься и сесть за свадебные скатерти.