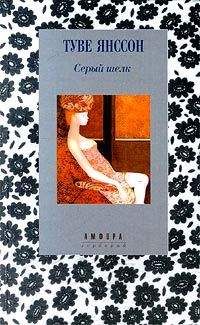Анастасия Туманова - Цыганочка, ваш выход!
– Слыхала, что брат твой сказал? – посмеиваясь впотьмах, спросил он. – Назад тебе теперь ходу нет.
– А мне и не нужно! – Симка на миг прижалась мокрой щекой к его плечу. – Идём? До станции далеко ещё?
– Версты две будет. Эх, ведь почти удрали уже! Хорошие у твоего деда лошади! Кабы ты с них ещё кулем не валилась…
– Смеёшься всё! – обиделась Симка. – Будто ваши кишинёвки верхами ездить умеют! А у меня теперь ни одного целого бока нет! О-о-ох… А… ты бы правда выстрелил?
– Зачем? – Беркуло усмехнулся, услышав в её голосе скрытый страх.
– Ну-у… а если бы парни не послушались?
– Послушались же. – Беркуло обнял девушку за плечи, незаметно пряча в карман «наган».
Симка вывернулась. Косясь на его карман, с той же опаской спросила:
– А пуль в этой твоей штуке много?
– Семь… Не устала, девочка? – Цыган поторопился сменить тему. – Ничего, чуть-чуть осталось. На станции мы с тобой в вагон влезем – и до Ростова. А там уж наших найдём. И свадьбу сыграем.
– Твои сердиться не будут, что ты чужую цыганку за себя взял? – вдруг встревоженно спросила Симка. – Не свою, не кишинёвку?
– Я, девочка, давно сам себе хозяин. А наши не рассердятся, нет. За такую красоту кто ж сердится? И петь так, как ты, у нас никто не умеет. Все обрадуются, что я такое счастье привёз… – Беркуло вдруг взял в ладони её мокрое лицо, повернул к себе, вгляделся пристально, без улыбки. Не отводя взгляда, сказал: – Брат твой, между прочим, правду говорил. Пойдёшь за меня – полжизни будешь из тюрьмы ждать. Наши все такие, вы поэтому кишинёвцев и не любите. Хочешь такого, девочка? Коли нет – возвращайся, пока цела. Я тебя ещё не трогал, честной к деду придёшь.
– Не пойду я никуда, – мрачно сказала Симка. – Не пойду от тебя. Передумал, избавиться захотел – так и скажи!
– Дура! – рассмеялся Беркуло, целуя её в сердито сомкнувшиеся губы. – Идём! Скоро светать будет.
Дождь лил уже в полную силу, мокрый ковыль обвивал босые Симкины ноги, путался под сапогами Беркуло. Звонко чавкала раскисшая пыль, небо содрогалось от грома, вспыхивало молниями. Тревожно кричали птицы. Гроза медленно, словно нехотя, уходила за гору. Тяжёлые тучи редели, превращаясь в стаи длинных облаков, сквозь которые всё чаще проглядывала рыжая ущербная луна, освещавшая мутным светом две бредущие по дороге фигуры – мужскую и девичью.
Братья Симки были правы: кишинёвец со светлыми глазами появился в таборе русских цыган невесть откуда. В эту зиму табору Ильи Смоляко пришлось остаться в Керчи, занятой Красной армией после ухода в Турцию последних войск барона Врангеля. В Крыму, где большевики разбирались с остатками белых со всей революционной непримиримостью, творилось такое, что цыгане, едва дождавшись первых пёрышек травы, покинули Керчь со всей возможной скоростью. Ехали целыми днями напролёт, ехали даже по ночам, едва давая отдохнуть лошадям. В степи стояла весна – тёплые и ясные апрельские дни, когда до выжигающей траву жары было ещё далеко. Степь цвела. Она казалась ковром, сотканным из пушистых нитей самых разных оттенков зелёного: от тёмно-болотного стрелолиста до золотистых пушистых головок цветущего ковыля. Дикие тюльпаны островками пестрели в этом разнотравье, и цыганские девушки досадовали, что этакую красоту невозможно воткнуть в косы: жёлтые, красные, розовые лепестки мгновенно осыпались. Гусиный лук и маки держались чуть дольше, и у каждой таборной девчонки красовались в волосах мелкие лилии лука рядом с блестящими, как шёлк, маковыми лепестками.
На первую большую стоянку остановились на высоком берегу Кубани у станицы Марьянской. Здесь, казалось, было тихо. Лёгкие шатры, натянутые на жерди и словно парящие над землёй, точно заплатками покрыли степь. Загорелись костры, звонкие голоса детей наполнили воздух. Женщин, ушедших на промысел, приняли в станице как родных. Казаки хотели узнать новости из первых рук, и ни одной цыганке в этот день не пришлось даже разложить карты. Вокруг каждой и без того толпились станичники с жадными вопросами о том, что всю зиму творилось в занятом красными Крыму. Таборные горько вздыхали, крестились – рассказывали. Казаки тоже крестились, и их загорелые, суровые лица темнели ещё больше. А казачки, всхлипывая, совали цыганкам в фартуки последнюю прошлогоднюю картошку, сухой хлеб, сморщенное сало – хорошей еды было сейчас не сыскать. Но цыгане и этому были рады, и вечером – когда над Кубанью разлился закат и вода реки стала золотисто-розовой – в таборе варился роскошный кулеш. Усталые женщины отгоняли от котлов голодных детей, цыгане, лежавшие на траве возле шатров, нетерпеливо тянули носами. Красное, ленивое к вечеру солнце медленно опускалось за гору.
Тревогу подняли дети: было уже сумеречно, когда их горластая, взволнованная, полуголая стайка ворвалась в круг света у большого костра:
– Ромалэ, идёт кто-то! К нам идёт! От дороги!
По табору прокатилась встревоженная волна голосов, несколько молодых мужчин поднялись и пошли навстречу. Кое-кто предусмотрительно сунул за пояс кнут, кто-то взял от костра полуобгорелую головешку: времена стояли опасные, от случайного путника можно было ожидать чего угодно. За цыганами, переглянувшись, побежали и женщины, самая отчаянная из них, Юлька Копчёнка, даже прихватила от своей палатки обрывок ржавой цепи. Но стоило им приблизиться – и стало видно, что от неожиданного гостя никакой беды ждать нельзя. Он был без рубахи, шёл медленно, шатаясь. Рука выше локтя была обмотана коричневыми от засохшей крови тряпками. На другом плече болталась кожаная сумка. Цыгане, переглянувшись, бросились навстречу:
– Эй, золотой, откуда ты? Кто это так тебя?
– Ме сым ром, манушале… – вырвалось у незнакомца. – Агараен ман, мангав тумен…[8]
Его мягкий выговор не был похож на речь этого табора, но то, что пришедший был цыганом, не вызывало сомнения. Мужчины подхватили его:
– Потерпи, родимый, теперь уж всё… Сейчас дотащим тебя, положим, бабы посмотрят… Где это тебя угораздило-то?
Незнакомый цыган не отвечал: ему явно было не до разговоров. Дыхание его было тяжёлым, хриплым, глаза закрывались сами собой. Едва оказавшись на наспех раскатанной перине, он потерял сознание. Вокруг него сразу захлопотали цыганки, вытолкав из шатра ворчащих мужчин.
– Чего выстроились, идите отсюда! Он вам всё равно сейчас ничего не скажет! Не видите – при смерти человек! Даст бог, в чувство придёт, тогда и допросите, а сейчас – вон отсюда!
– Раскомандовались, сороки… – ворчали разочарованные цыгане, но всё же послушались и, разом вспомнив о своих пустых животах, вернулись к ужину.
Стояла уже глубокая ночь, когда старая Настя последней выбралась из палатки и тяжёлым шагом вышла к потухающему костру. Цыгане, устав ждать, давно разошлись по своим шатрам, и возле углей старуху ждал только муж, высокий старик с неласковым взглядом.