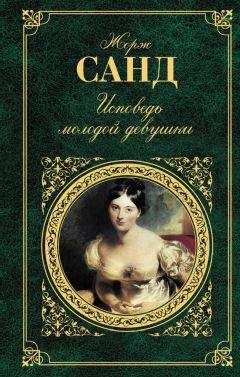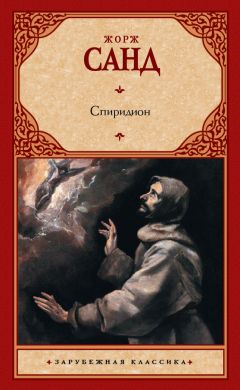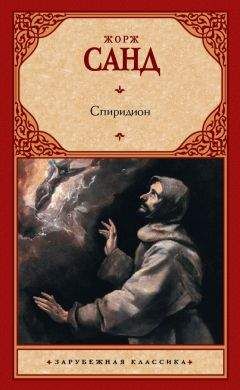Жорж Санд - Даниелла
Брюмьер, впрочем, славный малый. Ему лет тридцать. Имея небольшое состояние, он решился еще раз побывать в Риме, хотя, как он сам говорит, всему уже научился; он недурен собой, а его всегдашняя веселость почти переходит в остроумие; характер у него очень приятный.
Мы болтали на палубе о нашем путешествии, о городах, в которых необходимо побывать, как вдруг какой-то господин третьего класса, то есть пассажир-пролетарий, путешествующий по самой дешевой цене, с дантовской осанкой, будто на переправе через Ахерон, вмешался в наш разговор и посоветовал нам не тратить времени в Генуе, выражая к этому городу глубочайшее презрение.
Мне показалось, что я не в первый раз встречаюсь с этим человеком. «Где я вас видел?» — спросил я его. «Два дня тому назад, сиятельный господин, — отвечал он по-французски, — я играл на арфе в Марселе, на берегу моря». — «А, это вы? Где же ваша арфа?» — «Ах, добрый барин, арфы уже нет. Моя публика перепилась, перессорилась и передралась. В этой суматохе бедная арфа попала под стол, опрокинутый шестью сорванцами, которые и сами на него попадали и раздавили мою арфу. Когда эти господа перебрались со стола под стол, им уже невозможно было растолковать, что они лишили меня насущного хлеба. Люди они не злые; этого никак нельзя сказать; натощак матрос — добрый парень; но как хлебнет чересчур ромцу, так уж с ним не связывайся. Ром, мосье, ром всему причиной… Что прикажете делать. Чего доброго, пожалуй, и самого на смерть бы уходили; такой уж народ. Делать нечего, бросил там арфу, да и давай Бог ноги; теперь стану чем другим хлеб добывать. Признаться, мне и музыка, и Франция давно уж надоели. Я римлянин, сиятельный господин, я римлянин, — и с этими словами господин римлянин вытянулся во всю длину своего детски-малого роста, при котором щедрая природа одарила его целым лесом волос на голове и окладистой бородой. — Я римлянин, — продолжал он торжественно, — и меня невольно влечет на родные семь холмов.
— И хорошо делаешь, что спешишь туда, — отвечал ему Брюмьер. — Ты, должно быть, очень нужен на семи холмах! Но чем ты занимался прежде и какому занятию обречешь теперь драгоценные дни свои?
— Я там ничего не делал, — отвечал римлянин, — и как только сколочу копейку, чтобы хватило на целый год, опять целый год проживу без работы.
— Так у тебя ничего про запас не осталось от твоей кочевой жизни?
— Ничего. Мне даже нечем заплатить за проезд; но экипаж «Кастора» меня знает, и у меня не спросят денег до самой Чивита-Веккии.
— Ну, а тогда?..
— Тогда Бог даст, — отвечал он с равнодушием философа. — Может быть, вы, сиятельные господа, не откажете мне в небольшом пособии?
— Э, брат, да ты собираешь милостыню? — воскликнул Брюмьер. — Настоящий римлянин, и сомневаться нечего. На, вот тебе мое подаяние; ступай теперь к другим.
— Торопиться нечего, время не ушло, — отвечал цыган, протягивая ко мне руку, между тем как другой прятал в карман полфранка, данные ему Брюмьером.
— Неужели это римский тип? — спросил я моего товарища, когда арфист отошел от нас.
— Это тип-выродок. А все же и выродок этот прекрасен, вам не кажется?
Мне вовсе этого не казалось. Огромная борода увеличивала объем головы, и так слишком большой для такого малого и тщедушного тела; нос арлекина, длинный разрез глаз, окаймленных сверху густыми нависшими бровями, широкий, глупый рот, который с каждым движением комически подергивает подбородок, — все это казалось мне карикатурой на древнюю медаль. Приятель Брюмьер, кажется, привык к этому безобразию, и я заметил, что фигуры, смешные для меня, имели прелесть в его глазах, лишь бы в них проявлялась, как он выражается, порода.
Мы, однако же, сошлись с ним в мнениях относительно красоты одной из пассажирок. Это какая-то таинственная особа; она, кажется, свела с ума моего приятеля. Ему вообразилось, что это греческая принцесса. Сначала мы сочли ее за щеголеватую горничную знатной барыни, потому что она приходила к завтраку за кушаньем и унесла несколько блюд с собой; но после она, сидя на палубе, отдавала по-итальянски приказания другой женщине, по-видимому, настоящей горничной. Потом к ней подошла пожилая женщина, вероятно, та самая, что была больна, тетка или мать, и они разговаривали по-английски так бойко, как будто век свой на другом языке не говорили.
Брюмьер все утверждает, что очаровавшая его женщина — гречанка. В самом деле, у нее совершенно восточный тип: ресницы неслыханно длинны и тонки; продолговатые, с кротким взором глаза вовсе не похожи своей формой на глаза наших красавиц; лоб высокий, но не широкий; талия удивительная по своему изяществу и грации. Мне никогда не случалось видеть такой совершенной красавицы.
Я продолжаю письмо мое после двухчасовой остановки. Брюмьер — престранное создание. Он в самом деле влюблен, и то, что я рассказывал вам о нем в шутку, выходит совсем не шутка. Он разговаривал со своей принцессой, как он продолжает называть ее, и утверждает, что она прероманическая, престранная и превосхитительная особа. Она пришла на палубу одна и снисходительно слушала рассказы моего приятеля о звездах (которых, между нами будь сказано, тогда вовсе не было видно), о фосфорическом сиянии волн, которое, в самом деле, в эту минуту великолепно, о диковинках старого Рима, который она знает лучше самого Брюмьера, а это, по словам его, тоже немалая диковинка, словом, она едет прямо в Рим и нигде не остановится на пути своем, вследствие чего мой вертопрах, предполагавший пробыть некоторое время в Генуе, уже не хочет нигде останавливаться. Только приятель мой дал волю своему любопытству и начал расспрашивать, как принцесса озябла и ушла к своей старой родственнице, или, почем знать, барыне, при которой она, быть может, служит компаньонкой или чтицей.
Внезапно разбуженный энтузиазм молодого художника навел нас на разговор о любви; у него престранные теории. Я высказал некоторое сомнение насчет знатности его красавицы; он почти рассердился, уверяя, что он знает свет, а в особенности женщин, и что эта непременно принадлежит к высшей аристократии.
— Положим, — отвечал я, — вам это лучше знать, чем мне; но если вы, чего нельзя ожидать, ошибаетесь, не все ли вам равно, бедна или богата, маркиза или мещанка ваша героиня? Ведь не в богатство ее и не в знатность влюблены вы, как я полагаю, а в нее самое. Живописец не интересуется рамкой при оценке картины.
— Так, так, — отвечал он, — но если рамка хороша, она может придать цены картине. Конечно, можно любить женщину без достояния и без предков; это случалось со мною, случалось, вероятно, и с вами, да и с кем этого не случалось? Но если прекрасная, любезная, умная женщина, кроме этих достоинств, знатна и богата, она много выигрывает этим, потому что тогда она живет в своей настоящей среде, в атмосфере поэзии, созданной для красоты.