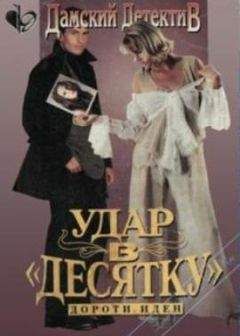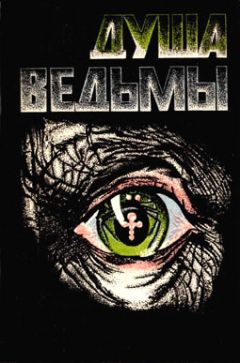Аннетт Мотли - Ее крестовый поход
От зрелища, представшего перед ее взором, голова закружилась, и она крепко вцепилась в парапет. Выстроившись в строгом порядке под развевающимися знаменами, у стен стояли одетые в черное рыцари святого Иоанна Иерусалимского.
Выехав вперед на могучем белом боевом коне, командир громко закричал, требуя впустить их.
Иден тоже закричала, не веря собственным глазам, но она находилась слишком высоко, и ее крик не долетел до него.
Ворота отворились, и рыцари въехали в Масияф; во главе небольшого отряда верхом на Горвенале был сам Тристан де Жарнак.
Все еще цепляясь за теплый камень парапета, чтобы не упасть, Иден постаралась собрать остатки самообладания и успокоить невольную дрожь во всем теле. Чудо Дамаска повторилось вновь. Господь смилостивился и еще раз направил Тристана для ее спасения.
Всем существом стремилась она сбежать вниз и броситься ему в объятия, но осторожность взяла верх, и Иден остановилась обдумать свои действия. Она понятия не имела, что за миссия у Тристана и как его здесь встретят. Похоже было, что он прибыл в Масияф под предлогом дружбы с Рашидом, но даже в этом случае было разумнее пока не обнаруживать себя. Она могла навредить Тристану, какая бы цель у него ни была. Лучше всего вести себя осмотрительно, наблюдать, слушать и выжидать удобный момент, чтобы как-то объявить Тристану о своем присутствии.
Пока достаточно было знать, что он рядом. Волна счастья нахлынула на нее, и она стояла, держась за зубцы, будто некое изваяние. В нее словно вдохнули новую жизнь.
Вскоре экстаз ее был нарушен чьей-то торопливой поступью. Появились двое стражников, явно искавших ее. И хотя их худые лица не выражали угрозы, сердце ее забилось чаще при сообщении о том, что Рашид желает ее видеть.
Аль-Джабал находился в самой маленькой из своих комнат, которая выходила в неприступный внутренний дворик замка, что дало возможность устроить в ней огромные сводчатые окна, закрытые толстым матовым стеклом желтоватого оттенка. Шейх был один, без слуг или охраны.
— Садитесь, госпожа. Я буду краток.
Никогда Иден не приходилось видеть человека, обладавшего столь величественным спокойствием. Чем объяснить, что этот невозмутимый человек, чьи руки мирно покоились на коленях, постоянно вызывал у нее безотчетный страх?
— В Масияф вам пришлось увидеть вещи, о которых вы, возможно, сочтете за лучшее забыть, — проговорил он безмятежно, словно беседуя о погоде. — Особенно случись вам оказаться в компании наших теперешних гостей из Крак-де-Шевалье. Это вопрос не только вашей жизни, но и жизни каждого из них.
Голос его звучал ровно и бесстрастно, даже теперь в нем не было злобы, лишь жуткая отстраненность, словно он играл в шашки со всем миром и мог одним движением очистить доску при малейшей допущенной оплошности. Его присутствие точно замораживало. Лучше уж грубое распутство сэра Хьюго — оно, по крайней мере, являлось проявлением человеческих страстей.
Она опустила глаза и смиренно поклонилась:
— Те вещи уже забыты, величайший.
— Тогда можете идти, леди Хоукхест.
Она все же осмелилась задать вопрос:
— Величайший…
— Говорите.
— Это лишь… женское любопытство… Я хотела бы знать, что ждет меня в будущем?
— Я не прорицатель, — заметил Аль-Джабал с легкой иронией. Он разъединил длинные тонкие руки и повернул их к ней ладонями вверх.
— Я еще не взвесил вашу полезность, — произнес он с достоинством, превращающим ее в ничто. — Когда я сделаю это, вы будете извещены.
Пришлось довольствоваться услышанным. Она поклонилась и готова была уйти, когда он вновь заговорил, на этот раз тон его был чуть более мягким:
— Есть, правда, одна услуга, которую вы можете оказать мне этим вечером. Мне доставляет удовольствие ваше пение. Нашим гостям также было бы приятно услышать напевы своих родных земель. Вы придете в зал развлечь нас за обедом.
Иден еле сдержала крик радости. Она увидит Тристана и, может быть, окажется с ним рядом. Улыбаясь, она отправилась в свою комнату сделать необходимые приготовления.
Укладывая волосы с большей тщательностью, чем за все последние дни, она прикидывала, как следует себя вести. Он не сможет признать ее, а она, в свою очередь, не сможет заговорить с ним, ибо простой певице не пристало обращаться к столь почетному гостю. И все же ей необходимо как-то сообщить ему то, что ей удалось разузнать.
Ее осенило, когда она начала перебирать в памяти песни, которые могла бы исполнить. Всем знакомы песни Прованса и Аквитании, знаменитые баллады о любви и рыцарстве… но только один из всех, как ей наверняка было известно, разбирал язык старой Англии — саксонский выговор сервов и крепостных, которому в детстве обучала ее Хэвайса. А Тристан говорил на этом языке во времена своей юности в Корнуэлле. Выбранный способ потребует железной выдержки и изощренного притворства, но это единственно возможный путь. Их встреча должна состояться на глазах у всех, и другого случая может уже не представиться. Она настроила кифару и с бьющимся сердцем спустилась в зал.
Пир был в разгаре, и вино лилось рекой. Личные музыканты Рашида, по примеру своих собратьев в Дамаске, наигрывали дикие ламенты горных племен — мрачно рокотали барабаны, страстно и безутешно рыдали рибеки. Она собралась попросить барабанщика подыграть ей, дабы настойчивый ритм помог поскорее завладеть аудиторией. Войдя в зал через заднюю дверь, она остановилась позади музыкантов, расположившихся напротив центрального стола Рашида на расстоянии, приятном для слуха сатрапа и временами почти нестерпимом для слушателей, оказавшихся в непосредственной близости. Оглядевшись, она затаила дыхание при виде Тристана, который сидел на почетном месте по правую руку от Аль-Джабала, всецело захваченный беседой с шейхом. Красота Тристана очаровывала, как будто она видела его впервые, так он был сейчас недосягаем. Присутствие его было не менее значительно, чем присутствие самого Аль-Джабала. Он был одет в великолепный белый бархат, усыпанный драгоценными камнями, и свет от стоявших на столе подсвечников отбрасывал блики на черные волосы, каждый завиток которых вызывал в ней болезненное желание.
Он поднес кубок к губам, и лицо его немного повернулось к ней. Ее охватила непереносимая жажда коснуться его, бесконечно глядеть в эти суровые и обольстительно ленивые глаза, почувствовать упругость его губ, что произносили сейчас любезности сидевшему рядом коварному властелину…
Музыканты окончили очередную мелодию. Она отвела взгляд от Тристана и поспешно заговорила с ними. Медлить было незачем. Она начала с излюбленной «Pax in Nomine Domine»[15], с которой крестоносцы прошли много земель, стремясь к своей цели. При этом она не отрывала глаз от повелителя Масияф и его достойного гостя, как того требовала от придворной певицы учтивость. Тристан, повернувшись к хозяину, не подавал виду, что заметил песню или ее исполнительницу, продолжая свою беседу, и для большей выразительности сопровождал речь отточенными жестами.