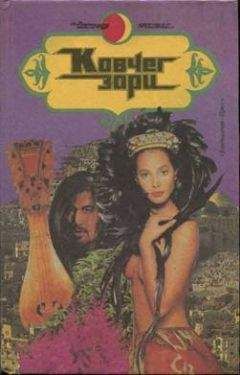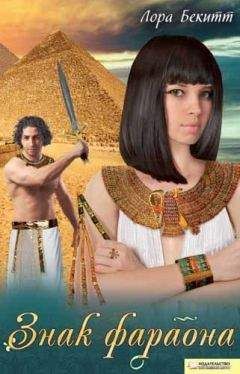Якоб Ланг - Наложница фараона
Но уже никто не удивлялся рассказу Раббани. Его только спросили дружелюбно, кто он.
— Я — это я, — ответил он, — но я — это и другой кто-то. Не все мне ясно, — он снова помолчал, затем продолжил. — Мы с ней во вражде. Но есть и другие силы; и с ней, и против нее, и куда более враждебные ей, чем я… Я не мог ничего сказать Вольфу. Но болезнь его усиливалась и чувства его обострялись. Он уже почти понимал, что я имею какое-то важное для него знание. Впрочем, мое знание тогда было в чем-то смутное. Я не знаю и сейчас, зачем она показала свою силу бедняге Ёси, слуге Вольфа. Что он такого сумел увидеть, о чем мог проговориться, я не знаю. Она сама не властна над своей силой и вдруг может показать свою силу какому-нибудь совсем простому разумом человеку. Я видел, как лицо Ёси, совсем простецкое, озарилось восторгом. Он вскочил на окно, ударил в ладоши и бросился вниз. Я не знаю, что он увидел; каждый видит свое. Рассказать никто не может и не всякий может выдержать и остаться в живых. — Раббани поискал глазами Андреаса и указал на него рукой. — Вот он увидел сущность, одну из многих сущностей. Плохо ему, он болен. Но от этой болезни так чудесен и спасет нас. Она не знает себя. Зло течет бессознательно, неосознанно. То, что вы видите сейчас, это не сущность. Видение порождает стремление к полету. Но у человека уже нет сознания, что это — полет вниз!.. — Раббани уставил вниз темный палец, твердый и сильный. Андреас молчал и, казалось, размышлял напряженно.
— Я не знаю, что такое она, — сказал Раббани. — Она — сама обыденность жизни, а обыденность жизни — это и благо и зло, и зло и благо. — Раббани снова указал на Андреаса. — Он — необычность, в него трудно поверить, в нее поверить легко. Но верьте в него сейчас, верьте! Примите его. — Все смотрели на Андреаса. Но он не казался смущенным, только серьезным, очень задумчивым, сосредоточенным. — Она — одно, — продолжил Раббани, — но у нас возникает иллюзия, будто их — две. Даже у меня иногда возникала такая иллюзия. Но он, — Раббани снова указал на Андреаса, сделав несколько шагов к нему, — он в детстве один раз обрел способность видеть. И он увидел, что она — это одно. Скажи коротко, что ты видел, Андреас?
— Вернее было бы сказать, что я не видел ничего, — заговорил Андреас. — Он говорил негромко, но почему-то все на площади слышали его голос. — Я был маленьким и пришел в дом отца. Я видел и слышал, как отец и его жена говорили с пустотой и о пустоте. И они говорили так, будто пустота — это была маленькая девочка, дочь жены отца… Но я не могу понять… Отец был обманут?
На лице Раббани ярче проступило это выражение мальчишеской пытливости, почти детского открытого любопытства.
— Нет, — сказал Раббани. — Она и сама не всегда сознавала, что, в сущности, не существует ее дочери. Она и сама жила как во сне. Она словно бы снилась людям. И в этом сне она ощущала себя обычной женщиной и совершала обычные мелочные женские поступки. Но сама того не сознавая, она совершала эти поступки с необычной силой. И вдруг пробуждалась и тогда защищала себя…
— От меня? — спросил Андреас беззащитно.
— Да. Ты был ее невольным врагом. Вот ее знак, — Раббани повел в воздухе высоко вскинутым указательным пальцем и все поняли, что он начертил знак креста с загнутыми под углом концами. — Это страшный знак, — сказал Раббани, — знак страшной животности в человеке; знак страшного женского начала, которое непрерывно само себя порождает и жаждет в этой своей животности властвовать и торжествовать. Это знак-оберег родильной нечистоты, знак жизни для себя и смерти для других. Есть и богиня такая и ей поклоняются. И в далеких-далеких индийских странах этот знак называют: «свастика», от слова «свасти» — «благо». Но это страшное благо, когда уничтожается духовное и торжествует животность в человеке. Я и еще те, кто подобен мне, а я подобен им, мы зовем этот знак: «Часы Ветра»… — от этого странного сочетания слов — «Часы Ветра» — на площади и вправду словно бы замерло странное, холодное и таинственное дуновение. Видение женщины на кровле чуть заколебалось зыбко. Раббани продолжил говорить. — Ее знак, — он обратился к Андреасу, — ее знак — вбирающая в себя разомкнутость, разверстая пасть, пещера, поглощение; злой и нечистый знак. Твои знаки — добрые и чистые — замкнутая звезда, сердце замкнутое, замкнутый корабль плывущий; петух, зовущий зарю…
— Смысл — в победе добра над злом? — Андреас спросил едва слышно и с каким-то унынием в голосе. На этот раз его слышал один лишь Раббани.
— Смысл — в гармонии, — тихо отвечал Раббани, — в гармонии, которая, вероятно, невозможна, и даже идеал ее непредставим… — Раббани усмехнулся.
Улыбнулся и Андреас.
— Довольно и того, что смысл — не в борьбе и не в победе, — сказал он. И легко, с облегчением вздохнул.
Видение женщины сделалось недвижно.
— Но если она сама себя не понимает, — сказал Андреас, — значит, она не виновата, а всего лишь такова, какова она есть. Зачем карать ее? Я ей прощаю мои мучения. И моя мать простит ее, как простила моего отца…
Теперь все снова слышали и слова Андреаса и слова Раббани.
— Она — не человек, — ответил Раббани Андреасу, — не человек, а некое явление; как дождь, или жар, или полный зверей лес. Ее не надо прощать или не прощать. Но она мешает здесь, сейчас; и я могу изгнать ее и изгоняю…
И опять же он не стал простирать кверху руки и произносить какие-то заклинания. Но все увидели безмолвные корчи зыбкой женщины на кровле и ее телесные превращения… вот женщина… старуха… девочка… труп с болотно позеленелым лицом… череп в причудливом парике… снова девочка… Превращения стали зыбкими совсем, очертательными какими-то… И все исчезло… Только легкий, холодный, морозный пар взвился и рассеялся. И сильно соединило всех то, что они все вместе увидели чудо.
* * *Сафия тоже была на площади, но она стояла далеко от отца и от Андреаса, они даже и не видели ее. Ей казалось, что это будет какое-то некрасивое тщеславие — подчеркивать сейчас свою близость к ним. И даже когда все уже случилось и закончилось, она так и не подошла к ним, вернулась домой одна.
Дома она села на маленький, постеленный у ее станка ковер, поджала ноги под себя, как обычно делала, и стала размышлять.
Сначала она почему-то подумала о Вольфе, который был мужем госпожи Амины. Кажется, он не любил путешествий и в далеких странах не бывал. А что говорили о его жене, о ее происхождении, о том, откуда она взялась? Сафия не помнила, а, может, и не слышала никогда. Наверное, говорили и думали совсем не так, как было на самом деле. А Вольф помнил то свое путешествие в далекий город, который назывался Бальсора; помнил, как привез оттуда женщину? Или не помнил? И когда могло произойти такое путешествие? Какое это было «на самом деле»? «На самом деле» воображения и души, или «на самом деле» тела и телесного сознания?..