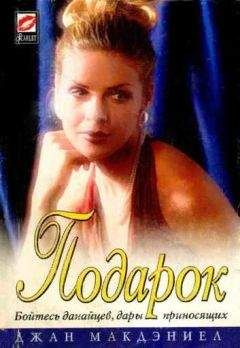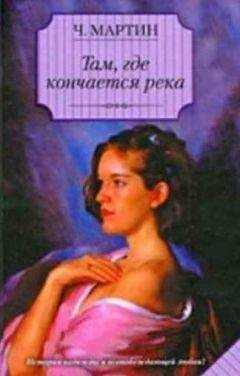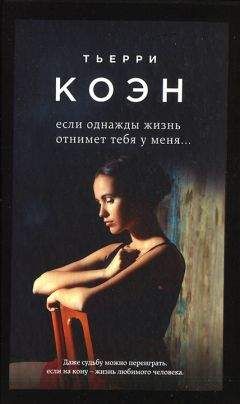Марина Струк - Обрученные судьбой
Как жить ныне, когда ярость и первое обжигающее разум горе ушли, оставляя в душе выжженное пепелище, как то, что оставил Владислав на месте усадьбы Северского? Как творить повседневные дела изо дня в день, когда ее глаза боле не видят света, а сердце не бьется?
«… Я люблю тебя, Владек… Всей сердцем и душой…»
Только, когда одна из сенных девок, что пахолики вытащили из церкви, где перепуганные холопы искали спасения от сабель польских, рассказала, запинаясь на каждом слове, про то, что творилось в вотчине боярской со дня побега Заславского, только тогда Владислав понял, как обвел его вокруг пальца Владомир. Всем отомстил тот, всем, кто виновен в смерти Марфуты: Северский принял смерть, Ксения тоже ушла из этого мира, а Владиславу достались муки сотника, когда лишился тот жены. Ведь приди хоругвь хотя бы на месяц ранее, тогда, когда он впервые отправил Владомиру весть, что достаточно окреп для похода… Отчего послушался русского? Отчего не обратил внимания на тревогу сердечную, что тянула его настойчиво сюда, в эти земли?
«…- Ты знал, лях, что она была тяжела? Ждала, что ты придешь за ней. Боролась со мной, как дикая кошка, за этого пащенка. Но за мной сила и правда, лях. Я лично выдавил этого ублюдка из ее утробы…», — раз за разом возникал в голове в редкие ночные часы без сна голос Северского, а потом снова те тихие слова, сказанные тем самым утром:
«… Ведь у нас родится сын. Мальчик с твоими дивными глазами цвета неба.
— И твоими волосами цвета… цвета… вороньего крыла…»
Владислав с шумом вздохнул, чувствуя, как в очередной раз в сердце кольнула острая игла. Как забыть это? Как стереть из памяти? Он так отчаянно хотел этого и в то же время боялся этого, стараясь не позабыть ее глаза, ее улыбку, ее облик. Светлое одухотворенное выражение лица, когда она молилась, повернувшись к краю земли, откуда встает солнце по утрам. Ее звонкий смех, когда она смеялась его шуткам. Ее ласки и поцелуи, робкие, легкие, мимолетные…
Теперь он жалел, что поддался тогда порыву и спалил ту полоску шелка, что когда-то Ксения вложила в его ладонь. Ведь ныне у него не было ничего, что напоминало бы ему о ней, что было бы свядеком того, что это был не сон. Такой дивный сон, закончившийся кошмаром, коего и врагу не пожелаешь!
Позади, за спиной Владислава раздался тихий шорох. Он резко обернулся, сжимая рукоять сабли, готовый тут же достать ее из ножен на поясе, и заметил пана Милошевского, что подходил к нему со стороны лагеря. Тот шутливо поднял руки вверх.
— Pax {14}, пане, то я, пан Славек.
Владислав окинул взглядом его фигуру и заметил, что тот снова надел кирасу поверх жупана. А ведь когда Владек уходил из лагеря, Милошевский уже сидел у костра, распахнув жупан от духоты вечерней. Он пил русское вино хлебное и отпускал скабрезные шутки, от которых так и покатывались сидящие у костра пахолики их хоругвей.
— Дозорные русских заприметили окрест? — спросил Владислав, срывая травинку и покусывая ее, наслаждаясь кислинкой, что тут же заполнила рот. — Или пан на войну какую собрался?
— Мы, пане, тут все на эту войну собрались. Тебя пришел спросить, пойдешь ли с нами? — ответил Милошевский, а после пояснил. — Дозорные в лагерь хлопа привели. Из того дыма, по которому прошлись нынче днем. Он-то в лесу успел скрыться. Так вот, говорит он, что тут в лесу стоит монастырь. Рассадник курочек.
— Каков хлоп! Своих же и выдает! — усмехнулся Владислав. — А что за монастырь в лесу глухом? Ведь только лес кругом. Разве бывает то?
— У московитов все бывает, — хохотнул Милошевский. — Скит, что ли, зовется у них. Вдали от всех молятся монашки их. Ну, и монахи, конечно. А выдал их наш дружочек оттого, что просились к ним укрыться хлопы, да местная аббатиса не пустила их. Вот как! Око за око, как гласит Библия. Ну, так что решил — с нами пойдешь или останешься в лагере? Твои люди не прочь бы женское тело помять.
— Nemo liber est, qui corpori servit {15}, - тихо проговорил Владислав, а после кивнул Милошевскому. — Пойду с тобой. Поглядим, что за монастырь там такой.
В лагере уже спешно собирались, седлали лошадей, проверяли оружие. Пахолики Владислава поймали легкий кивок своего шляхтича и присоединились к общим сборам. Нельзя было сказать, что их так уже манила возможность повалять монашек, скорее, их интересовало то добро, что можно было найти в подобных местах. Ведь что-то, а свои храмы московиты старались обогатить и златом, и камнями, украшая их для полного великолепия.
Наконец, наскоро забросав землей костер, всадники направились вслед за испуганно трясущимся хлопом в разорванной рубахе через лес, аккуратно пробираясь через густые ветви и объезжая заросли.
— Куда нас опять понес черт? — недовольно буркнул Ежи, ехавший недалеко от Владислава, когда в который раз ему хлестнула по лицу ветвь, едва не сбив на землю шапку с головы. — Что нам там надобно? Опять кровь лить? Опять баб гонять? Не притомилась душа-то?
— Нет у меня души боле, смерзла, — отрезал холодно Владислав. — Но едем мы не за кровью и не за бабами (хотя кому что). Сам не знаю, зачем едем, понятно?
Он сам никогда не признается никому, что устал от крови и слез людских, что битва с воинами для него во сто крат лучше, чем баб гонять перепуганных по деревням. И кто знает, что потянуло его сюда? Быть может, наоборот желание сдержать Милошевского от зверств его привычных, от которых стонет земля русская?
За своими думами Владислав даже не заметил, как приблизился отряд к темной громадине деревянного частокола, что окружал несколько деревянных построек, самой высокой из которой была церковь, крест на крыше которой так отчетливо ныне виднелся на фоне летнего ночного неба. Монастырь располагался в самой чаще лесной, сюда даже не вела никакая дорога. Только узкая тропинка, которую сами поляки ни в жизнь бы не обнаружили.
— Ну, начнем! — задорно хохотнул Милошевский и направил коня прямо к запертым воротам монастыря, достал саблю и громко стукнул рукоятью о толстые створки.
Сначала никто не отозвался на этот стук. Все так же доносилось откуда-то из-за этого тына едва слышное мерное пение, да где-то хрустнула ветка в глубине леса. Потом вдруг заскрежетало, заскрипело, отворяясь, оконце в воротах. Оно было столь мало, что ни поляки, ни тот, кто стоял позади ворот, не могли разглядеть в него ровным толком ничего.
— Кто здесь, Господи помилуй? — окликнул недовольный женский голос. Милошевский толкнул в спину острием сабли хлопа, что привел их к этим стенам. Тот поспешил отозваться.
— Аминь, сестра. То я, Митяй Косолапый из Тырцева займища. Меня батя прислал поведать вам, что ляхи в округе ходят.