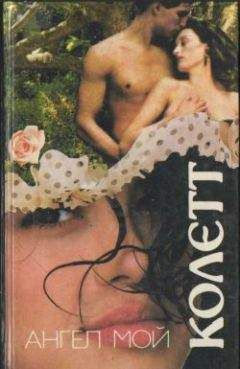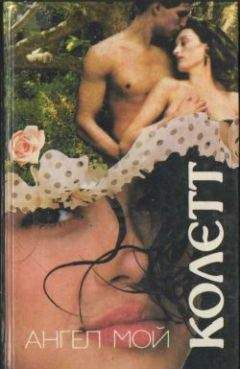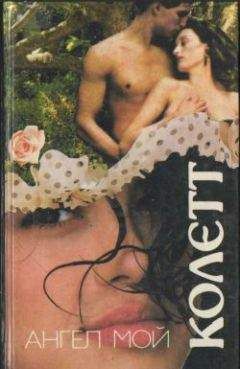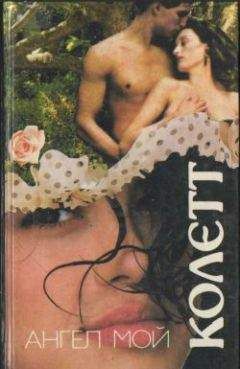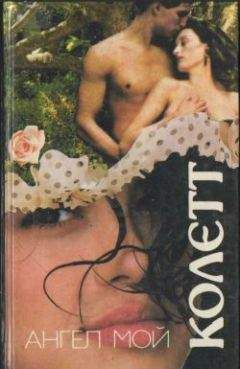Сидони-Габриель Колетт - Неспелый колос
– Боже, что ты так долго делал, Флип?
Он коснулся губами её голубоватых век, сквозь которые чуть просвечивали зрачки, и поцеловал очаровательные фиалковые глаза своей верной подруги. Затем напыщенно провещал:
– Что я делал? Да что я только не делал! У поворота дороги на меня напали, заточили в подземелье, напоили сильнодействующими возбуждающими снадобьями, нагим привязали к позорному столбу, секли, пытали…
Перванш смеялась, прильнув к его плечу, а он тряс головой, пытаясь незаметно стряхнуть две крупные слезинки, от волнения выступившие у него на ресницах, и про себя думал: «Если бы она знала, что всё это – чистая правда…»
IX
С тех пор как госпожа Дальре предложила ему стакан оранжада, Флип продолжал ощущать на губах его ледяной ожог. Он убеждал себя, что никогда в жизни не пил и не выпьет столь горького напитка.
«При всём том, когда пил, я вовсе не чувствовал его вкуса… Только позже…» Этот визит, о котором он не поведал Вэнк, остался в памяти болезненной пульсирующей точкой, от которой распространялись горячечные волны, а он по собственному произволу то растравлял незримую ранку, то остужал своё распалённое воображение.
Меж тем дни Флипа, как всегда, принадлежали Вэнк, верной подруге его сердца, рождённой близ него ровно на двенадцать месяцев позже, преданной, словно сестра-близняшка своему братцу, объятой страхом, подобно возлюбленной, которой назавтра предстоит потерять любимого. Но ни их мечты, ни их кошмары не зависели от повседневности. Некий дурной сон, наполненный ледяной тьмой, приглушённым цветом крови вокруг и чёрно-золотым бархатом перед глазами, отравил существование Флипа, укорачивая день, торопя заход солнца, – и всё с тех пор, как в гостиной «Кер-Анны» он выпил оранжад, поданный суровой Дамой в белом. Сверкание бриллианта над краем стола, подтаявший ледяной кубик, засиявший меж трёх бледных пальцев… Сине-красный ара, молчаливо сидящий на жёрдочке, его крыло с подкладкой из белых перьев, тронутых розоватым, как мякоть персика, налётом… Пылкий подросток переставал доверять собственной памяти и расцвечивал эти картинки в фальшиво-яркие тона. Так в наших снах мы иногда сгущаем до синевы зелень древесных крон, а в некоторых тонах и оттенках нам явственны отзвуки реальных страстей.
Этот визит был полон тягостных впечатлений. Даже воспоминания об ароматных снадобьях, тлевших в чаше для благовоний, долго перебивали ему аппетит, вызывали обонятельные галлюцинации:
– Вэнк, тебе не кажется, что креветки нынче отдают росным ладаном?
Разве приятно вдруг очутиться в наглухо замкнутой комнате, пробираться ощупью среди мягких бархатистых предметов? А какое удовольствие в неуклюжем побеге, когда выскакиваешь из этого сумрака под снопы солнечных лучей, внезапно обрушивающихся на плечи? Нет, всё это нисколько не походило на наслаждение, скорее – на страдания должника, терзаемого кредиторами…
«Я обязан отплатить ей любезностью за любезность, – однажды утром сказал себе Флип. – Ничто не даёт мне права вести себя по-свински. Мне нужно положить цветы к её дверям и более об этом не думать. Но вот какие цветы?»
Китайские астры в саду и бархатистый львиный зев показались ему недостойными этой чести. На исходе августа лишились лепестков дикая жимолость и клематисы, обвившиеся вокруг стволов осины. Но во впадине между дюнами он видел озерцо песчаного синеголовника с голубыми цветками и лиловым хрупким стеблем, вполне годящегося для того, чтобы называться «зеркалом глаз Вэнк».
«Синеголовник… Я его видел в медной вазе у госпожи Дальре… А можно ли его дарить? Ведь это ни дать ни взять чертополох! Я положу букет к решётке ворот… А входить не стану…»
С предусмотрительностью, достойной его шестнадцати лет, Флип дождался дня, когда Перванш, почувствовав усталость и лёгкое недомогание, улеглась в тени, капризная и томная, с фиолетовыми тенями под глазами, и отказалась от прогулки и купания. Втайне от всех он срезал и связал в букет самые красивые стебли, немилосердно изрезав руки жёсткой, как железо, листвой. И тёплым бретонским утром, когда землю заволокло лёгкой дымкой, а море оделось в бесплотно-молочные тона, он оседлал свой велосипед. В неудобных белых полотняных панталонах и в самом красивом шерстяном свитере крупной вязки он подкатил к стенам «Кер-Анны», пригнувшись прокрался к решётке ворот, чтобы подбросить цветы, словно избавляясь от опасной улики. Он рассчитал, как вернее бросить свою ношу, подметил место, где стена близко подходит к дому, и, раскрутив руку, словно пращу запустил букет в воздух. Раздался крик, затем шаги по усыпанной гравием дорожке, и сдавленный от гнева, но тотчас узнанный им голос произнёс:
– Попался бы мне тот идиот, кто это придумал… Почувствовав себя оскорблённым, он не убежал, как ему хотелось, и разъярённая Дама в белом обнаружила его у калитки. Завидев его, она переменилась в лице, и сведённые на переносице брови разошлись; пожав плечами, она подытожила:
– Я могла бы и догадаться. Невелика хитрость. Она подождала извинений, но их не последовало, ибо Флип был весь поглощён созерцанием, про себя безотчётно вознося ей хвалу за то, что она снова в белом, что её губы не слишком явно, но тронуты помадой, а глаза – тушью. Она поднесла руку к щеке.
– Надо же, у меня идёт кровь!
– У меня тоже, – не слишком находчиво откликнулся Флип и протянул ей исцарапанные руки. Она нагнулась к ним, размазала пальцем крохотную блестящую капельку крови на ладони Флипа.
– Вы рвали их для меня? – безмятежно спросила она.
Вместо ответа он лишь кивнул, не без тайного злорадства демонстрируя этой изысканной особе манеры неотёсанного крестьянского парня. Однако, казалось, это её не удивило и не раздосадовало.
– Не желаете ли зайти на минутку?
Так же не разжимая губ, он отрицательно мотнул головой, и волосы запорхали вокруг лица, похорошевшего от выражения странной суровости, вытеснившей все иные оттенки чувства.
– Они такого… несказанно голубого цвета… Я их поставлю в мою бронзовую курильницу…
Его лицо чуть смягчилось.
– Я так и думал, – подтвердил он. – Или в серый глиняный горшок.
– Да, если вам угодно… В серый глиняный горшок.
Его привела в восхищение некая покорная мягкость в голосе госпожи Дальре, и она заметила это, заглянула ему в глаза и с прежней непринуждённой, почти мужской улыбкой, переменив тон, спросила:
– Скажите-ка, господин Флип… ответьте на один вопрос… на один простой вопрос… Вот эти прекрасные голубые цветы вы нарвали для меня, чтобы доставить мне удовольствие?
– Да…
– Это прелестно. Чтобы доставить мне удовольствие. А о чём вы думали больше, о моём удовольствии их получить или – прошу, будьте внимательны – о своём удовольствии набрать их для меня и мне вручить?