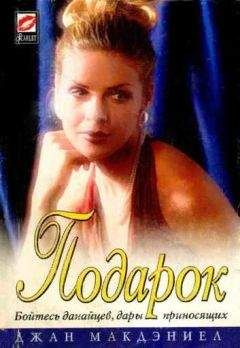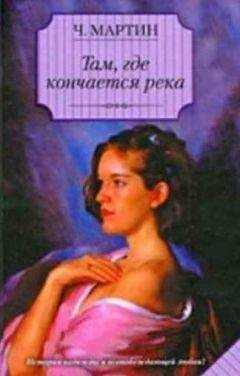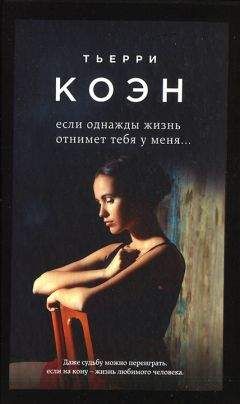Марина Струк - Обрученные судьбой
— На Мину родичи твои приедут, — сказал и порадовался, как быстро Ксения глаза на него от рукоделия, взглянула удивленно, с затаенной радостью в глазах.
— Неужто? — тихо прошептала она. Матвей кивнул.
— До Рождества останутся, вестимо, на праздники прибудут, — а потом добавил уже тише. — Ты об уговоре нашем помнишь?
Глаза Ксении тут же погасли, уголки губ поползли вниз, и Северский сначала пожалел, что завел этот разговор. Но отвертеться от него никак нельзя было — он должен был знать, чего ему ждать от зимних праздников.
— У нас с твоим отцом договор был. Грамоту писали, целованием скрепляли, — так же тихо говорил Матвей, не отводя глаз от жены, занявшейся снова работой. Лихо сновала игла с цветной нитью по полотну, выводя дивный узор. — Тот оговорил в нем, что дочь его будет мужем наказана только за проступки свои, а не будет учена, как Домострой велит. Боялся, что руку поднимут на тебя лишний раз, вот и прописал все в договоре нашем на потеху да зубоскальство писарям, вестимо. А ты же брательнику своему много чего поведала, Никитична. Оттого и приедут, глядеть что и как.
— Я не ведала об этом, — проговорила Ксения, не поднимая глаз от полотна. Она удивлялась ныне сама себе: такая весть на нее свалилась, а она даже бровью не ведет. Неужто выгорела дотла ее душа за эти седмицы, что даже ничего не шевельнется внутри? Даже радости нет, что родичей увидит. Отец ли приедет или один из братьев? А потом вдруг подумала, как опасно ныне на дорогах, ведь радость от встречи долгожданной не туманила разум, позволяла мыслить ясно.
— Вестимо, не ведала! Кто ж бабе говорит о договоре? Не бабское то дело, — вырвалось у Матвея невольно, а потом он снова притих. — Никита Василич приедет, видать. Сердце у него за тебя болит.
— Не отдавал бы от себя, не болело бы, — не удержалась Ксения, но Северский услышал ее, вскочил со своего места, и на миг Ксении показалось, что он ударит ее за дерзкие речи, как бывало прежде, пока она не усмирила свой язык. Но Матвей лишь плечами передернул, к окну отошел, отворил его, будто душно ему было в светлице.
— Не ведаешь ты, Ксеня, каково это быть взращенной отцом, у которого и вовсе сердца нет, — глухо проговорил он, и Ксения замерла, уловив незнакомые нотки в голосе мужа, оставила работу. — Мой отец воспитывал нас по иному разумению. Держал вот здесь, — Матвей сжал свою ладонь в кулак. — Всю семью и холопов. Каждый Божий день, едва мне минуло пяток, перед молением он сек меня до крови жезлами {7}, выбивая из меня грехи, давая мне разум и уважение к отцу своему. А потом родились сестры, и он принялся и за них. Моя мать даже слова поперек сказать не смела. Я плохо помню ее в то время. Только ее крики, когда отец воспитывал ее за малейшую провинность, — Матвей горько улыбнулся, по-прежнему не глядя на притихшую Ксению. — Я не помню материнской улыбки. Она никогда не улыбалась, стыдясь своего вида. Ведь отец выбил ей несколько зубов, когда я убежал от него из светлицы из-под жезлов, по малолетству ища защиту у матери в тереме. Она вдруг презрела свое воспитание и пыталась усовестить мужа, говоря, что я мал еще, что даже не было постригов {8}. Он бил ее тогда ногами прямо у меня на глазах. И именно тогда я впервые понял, что ненавижу своего отца.
Северский оглянулся на Ксению, чтобы увидеть, как она реагирует на его слова, ужасается ли им. Но жена молчала и смотрела на него, и он не мог понять, что плещется в глубине ее голубых глаз. Ужас, отвращение ли? Или… сострадание к нему?
Он вдруг сорвался с места, бросился перед ней на колени, схватил обе ее руки, прижался к ее ладоням щекой.
— Я ведаю, что ты можешь отринуть от меня свое сердце, едва узнаешь правду. Но я не могу более молчать. Я более двух десятков лет носил в себе это, не открываясь даже на исповеди. И вот впервые я чую желание поведать мою тайну. И хочу открыть ее тебе. Ибо не хочу иметь от тебя тайн, не хочу более недомолвок меж нами, — он замолчал, прижимаясь губами к ее ладоням, ожидая, что она отстранится от него, вырвет свои руки из его пальцев, но Ксения сидела, не шевелясь, только смотрела на него. И тогда Матвей продолжил. — Я никогда не знал ласки, Ксеня. Я ведаю, ты лишилась матери в младенчестве. Я лишился своей тогда же. Ибо не знал ее. Ни ее рук, ни ее ласки, ни ее улыбки. Я наблюдал за холопскими матерьми — за их суровостью к своим отрокам, но видел ясно, что за этой суровостью скрывается материнская нежность. И я бы все отдал, чтобы хотя бы раз почувствовать, как тебе треплют вихры, дергая сильно, но ласково за чуб на лбу. Как я грезил о том ночами! Пусть бы просто тронула меня за волосы мимоходом, но с лаской! А потом в усадьбу пришла воспа пятнистая {9}. Заболели сначала крестьяне, а после и в доме. Сперва сестры, затем отец. Одна из сестер померла, как многие холопы, а вот Феврония и отец выжили. Правда, болезнь оставила свой след на них, обезобразив лица. Потому-то сестру в двенадцать лет отдали в инокини. Отец же стал лютовать еще пуще после болезни, на нас с матерью вымещая свою злость на недолю. Я смотрел на мать в церкви во время служб, на ее синяки, плохо скрытые белилами, и ощущал страдание за ее муки, что терпела она от отца. Тогда-то мне пришла мысль, что ежели б отца не стало, то все у нас с ней было бы по-иному.
Ксения почувствовала каким-то шестым чувством, что именно сейчас Матвей расскажет ей то, что хранил в себе долгие годы, ради чего и затеял эту исповедь перед ней. Его голос стал глуше, он замер, скрывая свое лицо в подоле ее сарафана, ухватив вдруг ее за колени, будто желая помешать ей встать и уйти, если она пожелает того.
— В тот день мы поехали на охоту. Гнали волков, что тащили овец почти каждую ночь. Мне тогда уже было одиннадцать лет, я уже носил пояс наследника рода и сапоги боярские. Но как назло едва выехали, мой конь захромал, и мне пришлось отстать от охотников, отыскивая причину. Я догнал их только спустя время, да и то не повстречал — просто слышал звуки горнов да переклики в лесу, лай собак. А потом вдруг услышал голос отца, поехал на его звук. Не знаю каким образом, но отец не заметил знака и попал в охотничью яму, чудом избежав ран от острых кольев на ее дне. Я тогда тут же бросился к нему с веревкой, а, уже тяня его наверх, вдруг вспомнил свои мысли заветные, вспомнил каждую рану, каждый шрам на спине. И глаза матери вдруг вспомнились, когда она меня укрыть пыталась еще тогда, в малолетстве. И я резанул по веревке ножом, отпуская на волю коня своего, зная, что без него мне отца не удержать. Он уже почти выбрался из ямы, когда я сделал это. Взглянул на меня удивленно и испуганно. Он испугался, Ксеня! А потом веревка поехала в ладонях, срывая кожу до самого мяса, и я отпустил ее, боясь, что отец утащит меня за собой в яму. Он упал прямо на колья, повис там, глядя вверх на мое лицо. А я стоял над ним и ничего не чувствовал. Даже радости не было, словно опустела моя душа или отлетела с его душой, куда бы та не отправилась…