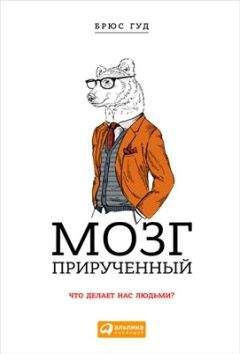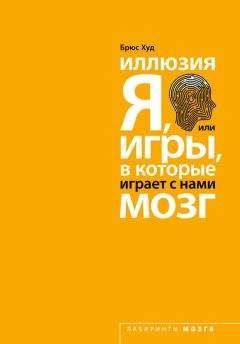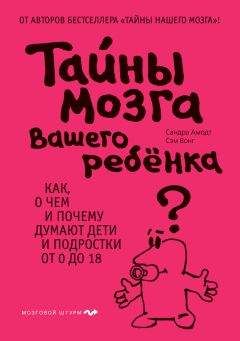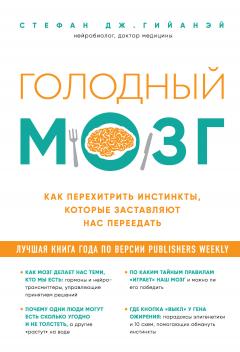Коллектив Авторов - Цифровой журнал «Компьютерра» № 169
Нет оснований сомневаться, что половой отбор внёс свой вклад в усложнение поведения людей, которое потребовало увеличения их мозга. Но, вероятно, этот фактор был не единственным. Я согласен с теми, кто считает приспособление ко внутрипопуляционной среде самой существенной причиной увеличения нашего мозга.
В самых разных примитивных обществах успех в выживании и размножении тесно связан с социальным статусом, с результатом взаимодействия с соплеменниками. Характернейшая особенность человека — его способность устанавливать индивидуальные отношения со множеством разных людей. Эти отношения учитывают предысторию, личные особенности контрагентов, включают прогнозирование их реакций с использованием модели их психики.
«Приматы прекрасно сознают переменчивость своего общественного мира — часто даже лучше, чем мира физического. Так, зелёные мартышки до смерти боятся питонов, но не способны при этом распознать свежий след питона. С другой стороны, они чётко отслеживают генеалогию и историю своей группы. Если две мартышки поссорятся, их родичи обидятся и будут ещё несколько дней задирать друг друга». Карл Циммер. «Эволюция. Триумф идеи»
Важная разница в приспособлении ко внепопуляционной и внутрипопуляционной среде состоит в том, что вторая намного динамичнее. Если вы научились прыгать с ветки на ветку, ветки от этого не изменятся. Если вы сможете переиграть (например, обхитрить) своих сородичей, вы оставите много потомков, которые (с определённой вероятностью) унаследуют ваши таланты. Им придётся взаимодействовать друг с другом, в социальной среде, которая станет ещё сложнее. Именно поэтому гипотеза экологического интеллекта, связывающая нашу эволюцию с приспособлением ко внешней среде, выглядит намного менее убедительной, чем гипотеза социального интеллекта.
Итак, именно внутрипопуляционные взаимодействия открывают перед интеллектом индивидов почти бесконечную перспективу эволюционного совершенствования. Результатом этой эволюции является развитие так называемого макиавеллиевского интеллекта (или интеллекта Макиавелли) – способности добиваться достижения своих целей в изменчивой социальной среде. Никколо Макиавелли, флорентийский политик и мыслитель начала XVI века, заслужил славу аморального циника, но, вероятно, был весьма достойным человеком. Впрочем, в его представлениях о правильном способе действий на первом месте находится не моральность, не следование принципам, а успех. Эволюция «рассуждает» так же.
Никколо Макиавелли (1469–1527), изображение dudye.com
Можно ли сказать, какой уровень макиавеллиевского интеллекта окажется достаточным для игрока, стремящегося обыграть других макиавеллиевских игроков в сложной и переменчивой социальной среде? Модель сознания других игроков позволяет распознавать обманы; возрастание проницательности требует совершенствования способов обмана. Такой гонке вооружений нет конца.
Трудами английского антрополога Робина Данбара показано, что размер неокортекса (прогрессивной части коры головного мозга) у приматов тесно связан с размером их групп. Численность группы, соответствующая размеру нашего мозга, составляет около 150 особей (так называемое число Данбара). Кажется, действительно, более крупные группы людей не допускают индивидуализированные отношения всех своих членов друг с другом. Однако и 150 индивидуализированных связей — это по-настоящему много, и их обеспечение требует очень сложного неврологического аппарата.
Как работают эти связи? Они позволяют учитывать предысторию отношений с каждым одноплеменником, оценивать его репутацию, передавать разнообразные сведения о его поступках с помощью механизма слухов и сплетен, строить обоснованные прогнозы о его возможных будущих действиях.
Важно то, что половой отбор и отбор на макиавеллиевский интеллект переплетаются и начинают поддерживать друг друга. Высокий интеллект становится маркером приспособленности, привлекающим партнёров; носители этого маркера оставляют больше потомков и ещё более усложняют социальные взаимодействия в популяции.
И всё-таки для меня ключевым следствием описанного здесь объяснения парадокса Уоллеса является то, что феномен учёта индивидуальной репутации известных нам людей уходит корнями в наше эволюционное прошлое, связан с самой причиной развития нашего интеллекта.
Работает ли феномен репутации в современном обществе так, как этого можно было ожидать?
К оглавлению
О пользе фиктивных кандидатов наук вкупе с докторами
Василий Щепетнёв
Опубликовано 21 апреля 2013
Иду по дорожке неспешно, старясь не пыхтеть, порой даже удаётся сказать одну-две фразы покороче. Дорожка ведёт к Малому Седлу, что на вершине парка, поднимая за сто метров пути на два, чаще на пять, а порой и на пятнадцать метров, отсюда и моя торжественная поступь. Таких, как я, много, поскольку парк известный, кисловодский, и едут сюда пить нарзан и гулять по дорожкам люди, озабоченные здоровьем. Или просто хотят рассеяться, вот как я.
Идём, рассеиваемся. Не факт, что каждый дойдёт до цели, не каждому и полезно достичь вершины. Терренкур – штука серьёзная, главное — не навредить. А мимо то обгоняя, то навстречу бегут спортсмены, на форме у которых написано «Россия», «Украина» или просто «Владимир». Неподалеку расположена олимпийская база, вот и тренируются спортсмены в условиях среднегорья. То там, то сям видны группки по три, четыре, восемь человек, которым тренер что-то втолковывает, показывая бумаги с графиками и результатами. Краем глаза слышишь «А вот на Европе…», а повезёт — разберёшь слово «Сочи». Вероятно, далеко не все будут стартовать на Олимпиаде, некоторым, по виду, в юниорах бегать и бегать, но бегут на Малое Седло, и ветром от них – как от самолёта на сверхзвуке.
И обыкновенные, неспортивные обыватели смотрят вслед спортсменам со смесью зависти, восхищения и желания.
Среди нас, бредущих по дорожкам, кого только нет. Наверняка найдутся и люди науки. Кандидаты, доктора, профессоров дюжина или две. Вполне возможно, что и академики есть, но сейчас не принято носить нарочитую шапочку, так что различить академика среди неакадемиков сложно. Ну и что? Скажи вслух, громко: «Глядите, кандидаты наук идут!», многие ль оглянутся? Идут и идут себе, неузнаваемые, никому не интересные, разве что себе и близким родственникам. Никто не смотрит на них с завистью и восхищением. И с докторами та же картина. Люди науки редко становятся объектом поклонения публики. Много ли фан-клубов у российских учёных, много ли преданных поклонников, кочующих параллельно с учёным от симпозиума к симпозиуму? Нет, народ решительно предпочитает учёным спортсменов, и спроси любого, хотел бы он пробегать марафон за мастерское время или же вместо этого иметь диплом кандидата каких-нибудь наук, боюсь, большинство выберет марафон. И не стоит объяснять это незрелостью молодости: с возрастом, пожалуй, цена способности пробежать марафон будет только расти.
Обличать обывателей, ругать их за косность и простоту вряд ли стоит. Выгода здорового тела понятна изначально. Тысячи поколений естественного отбора свидетельствуют в пользу могучих мускулов, здоровых зубов и острых когтей. С научным же складом ума — ума, разгадывающего абстрактные загадки природы вроде вычислений расстояния до ближайшей галактики, ясно не вполне. Как относились к абстрактному теоретику в племенах, населявших планету двадцать тысяч лет назад? Боюсь, как к ботанику в пролетарском районе. Практический ум, способность распознать необходимое и пути наилучшего подхода к нему – это иное, это, скорее, политика, а вот чистая наука, какова привлекательность её носителей? Тут без покровительства просвещённого монарха не обойтись, а до просвещённых монархов неолитическому обществу зреть и зреть.
И лишь в эпоху Возрождения, когда польза от наук становится очевидной, учёный потихоньку набирает социальный вес. Хотя и тогда учёный в зеркале литературных произведений современников — фигура преимущественно юмористическая. Изредка мистическая: не заключи Фауст договор с нечистым, кто б его знал, этого Фауста? Или кто-то помнит вклад в науку рискованного доктора? Вспомните, как отозвался Сумароков на смерть Ломоносова.
В эру индустриализации учёный на время превращается в героя, но чаще не положительного, а в злого гения: то мертвецов начнёт оживлять, то разводить крыс величиною с волка, а то и сразу примется бороться за трон Властелина Мира, используя в качестве аргумента невидимость, Машину Внушения, полчища железных воинов и прочие плоды своего извращённого ума. В этой ипостаси он и по сей день живёт на экранах кинотеатров: Голливуд, распробовав сюжет однажды, возвращается к нему снова и снова. Отгрызёт нужный кусок, прикопает, чтобы протухло (он, как медведь, любит тухлятинку), и уйдёт лет на пятнадцать. А потом опять воротится. Но фильма серьёзного и новаторского ждать всё тяжелее. Трудно представить, что фильм уровня «Девяти дней одного года» снимут сегодня. Хотя, если помечтать как следует…