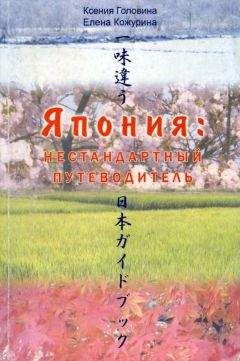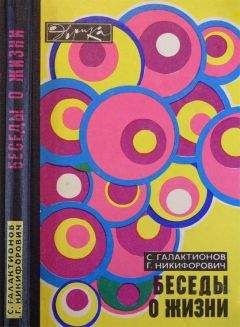Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
В 1903 г. Дрейера назначили артиллерийским офицером на недавно введённый в эксплуатацию додредноутный линкор «Эксмут» (HMS Exmouth). В 1904 г. «Эксмут» стал флагманом британского Флота метрополии (Home Fleet), после чего Дрейер получил пост советника по артиллерийской стрельбе у командующего — адмирала Артура Уилсона. С 1904 по 1907 г. «Эксмут» был первым в испытаниях и боевых методах стрельбы из Флота метрополии (позднее — Флот Канала). В 1905 г. Дрейер работал в калибровочном комитете под председательством контр-адмирала Перси Скотта, уже упоминавшегося нами как изобретателя прообраза циферблата Виккерса. Он был назначен офицером по экспериментальной стрельбе на «Дредноуте» (HMS Dreadnought) во время его испытательного похода 1907 г. [295]
Главным противником Поллена во время испытаний 1908 г. на борту «Ариадны» стало предубеждение адмирала флота Уилсона: по сути дела, тот уже решил, каким должен быть результат. Уилсон был убеждён, что более дешёвые ручные устройства могут быть не менее эффективными, чем дорогая система Поллена. В отличие от предыдущих тестов, здесь инструменты Поллена проявили себя с лучшей стороны, но производственный заказ не был размещён. Впрочем, в итоге Адмиралтейство всё-таки выделило Поллену некоторое количество денежных средств, чтобы дать ему возможность продолжить работу над системой [296].
В октябре 1907 г. Адмиралтейство ставило целью достичь погрешности не более 1% при измерении расстояния в 15 000 ярдов [297]. В то время это было не под силу инструментам, применявшимся на Королевском флоте. Растущие требования к точности и дальности стрельбы стимулировали разработку более сложных дальномерных инструментов как части артиллерийской системы корабля. В конце концов утвердилось понимание того, что большие военно-морские дальномеры не могут далее рассматриваться как инструменты, изолированные от прочего вооружения корабля [298].
В сентябре 1909 г. новые конструкции крепления дальномера и построителя курса были готовы к испытанию на крейсере «Наталь» (HMS Natal), которым командовал капитан Фредерик Огилви, признанный эксперт в области артиллерии. Под его командованием в 1909 г. «Наталь» одержал победу в соревнованиях флота по стрельбе [Gunlayer’s Test]. Огилви ранее отвечал за эксперименты по управлению огнём на додредноутном линкоре «Ривендж» (HMS Revenge), где на собственном опыте убедился в неэффективности ручных методов и заинтересовался возможностью автоматизации. Он проявил интерес к разработкам Поллена и после испытаний высказал уверенность в том, что, несмотря на имеющиеся недостатки системы, в будущем её ожидает успех. В лице Огилви Поллен нашёл ценного союзника, поскольку ко мнению первого прислушивались лорды Адмиралтейства. Взгляды Огилви на работу Поллена разделял и контр-адмирал Людвиг фон Баттенберг, командующий Атлантическим флотом Великобритании (Atlantic Fleet). К сожалению, в декабре 1909 г. Огилви скоропостижно скончался от тифа [299].
Дальнейшим развитием системы Поллена стал циферблат Argo Clock Mark I [300], появившийся на свет в начале 1910 г. В апреле того же года «Арго» получила производственный заказ на 45 гиростабилизированных креплений для дальномеров. Однако прототипы приборов оказались ненадёжными.
Тем временем Дрейер приступил к разработке собственной системы управления огнём, в которой расстояние до цели и пеленг отрисовывались на графике в зависимости от времени, чтобы получить скорости их изменения. В сентябре 1910 г. Дрейер запатентовал единую систему управления огнём, а затем его идеи были превращены в рабочие конструкции фирмой Elliott Brothers под руководством Кейта Элфинстоуна. Устройство вошло в историю под названием «столик Дрейера». Первая его версия была испытана на борту додредноутного линкора «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) в конце 1911 г.
В то же время компания «Арго» заканчивала разработку совершенно нового дизайна циферблата, получившего название Argo Clock Mark IV. Поллен также разработал свой собственный скоростной графопостроитель, который, вместе с новым циферблатом, должен был пройти испытания на сверхдредноуте «Орион» (HMS Orion).

Весной 1912 г. глава DNO контр-адмирал Гордон Мур попросил Поллена назначить цену за поставку дополнительных циферблатов и графопостроителей, однако в итоге договориться не удалось. В августе (после назначения на должность контролёра Флота) Мур рекомендовал не продлевать соглашение о секретности и монополии между Адмиралтейством и компанией «Арго». Последний заказ на пять (позднее — шесть) циферблатов был размещён в октябре, ещё до успешного испытания оборудования на «Орионе», состоявшегося через месяц. Отношения ухудшились ещё больше, и, после того как летом 1913 г. разногласия стали достоянием публики, Адмиралтейство разорвало все связи с Полленом, полностью сфокусировавшись на использовании столиков Дрейера [301]. Впрочем, к началу Первой мировой войны только один 12-дюймовый дредноут Гранд-Флита был оснащён системой Дрейера.
Война резко ускорила процесс оснащения кораблей, и к декабрю 1915 г. столиками были оснащены 24 линкора [302]. В большинстве случаев на корабли устанавливались различные варианты столика Дрейера в комбинации с циферблатом Виккерса, и в мае 1916 г. треть линкоров и половина линейных крейсеров использовали именно такие варианты системы [303]. Флот обладал лишь шестью экземплярами циферблатов «Арго», которые в составе столиков Дрейера были установлены на линейный крейсер «Куин Мэри» (HMS Queen Mary) и на линкоры «Конкерор» (HMS Conqueror), «Аякс» (HMS Ajax), «Центурион» (HMS Centurion), а также «Одейшес» (HMS Audacious), погибший 27 октября 1914 г. в результате подрыва на мине. Упомянутый ранее «Орион» был единственным кораблём, полностью оснащённым системой Поллена [304].
Крупнейшим испытанием морской артиллерии времён Первой мировой войны «в реальных условиях» стало Ютландское сражение. Встреча британского Гранд-Флита и германского Hochseeflotte (Флота открытого моря) состоялась 31 мая 1916 г. в Северном море близ датского полуострова Ютландия, в проливе Скагеррак. Несмотря на существенное численное превосходство Гранд-Флита по всем типам кораблей, кроме додредноутов (28 британских линкоров против 16 германских, 9 линейных крейсеров против 5, 8 броненосных крейсеров против 0, 26 лёгких крейсеров против 11, 73 эсминца против 61 и т. д.), тактическую победу одержал германский флот: потери британцев по тоннажу потопленных судов превосходили германские потери почти в два раза (119 980 т против 62 233 т), а по числу погибших — более чем вдвое (5672 человека против 2115). Урон, полученный британским флотом, не был для него катастрофическим и не смог существенно поколебать доминирование Гранд-Флита на море. Однако ощутимые потери вызвали к жизни ожесточённую полемику, отголоски которой не затихают до сих пор.
Одним из наиболее жарких споров стал спор о системах управления огнём. Спустя менее чем два месяца после сражения Поллен опубликовал собственный анализ его результатов на страницах журнала Land & Water. В нём он, в частности, писал: «Никогда ещё потенциальная мощь военно-морских сил не стояла в таком резком контрасте с их реальной эффективностью в бою» [305]. Под влиянием исследований профессора Джона Сумиды в литературе на долгие годы утвердилась точка зрения о том, что тяжёлые потери в Ютландском сражении были платой за ошибочный выбор, сделанный в пользу системы Дрейера [306]. Профессор Дэвид Минделл в своей книге сообщает о том, что в ходе Ютландского сражения менее 3% снарядов, выпущенных британской артиллерией, достигли цели. Он также указывает на то, что наибольшей точности стрельбы удалось достичь «единственному кораблю, оснащённому механизированной вычислительной системой» [307]. Эта поучительная картина могла бы стать прекрасной иллюстрацией торжества передовых вычислительных технологий, однако более тщательное рассмотрение проблемы, к сожалению, ставит под сомнение столь прямолинейную интерпретацию произошедшего. Во-первых, кораблём, название которого опущено в тексте Минделла, являлся линейный крейсер «Куин Мэри», потопленный в первой фазе сражения (так называемом «беге на юг»). Из шести линейных крейсеров под командованием адмирала Битти все, кроме «Куин Мэри», были оснащены столиками Дрейера, и, хотя формально «Куин Мэри» и добился наилучшей точности стрельбы на первой стадии боя, речь идёт всего о четырёх попаданиях [308]. При этом единственным германским большим кораблём, потопленным огнём крупнокалиберной артиллерии, стал линейный крейсер «Лютцов» (SMS Lützow), выведенный из строя орудиями линейного крейсера «Инвинсибл» (HMS Invincible), оснащённого столиком Дрейера [309]. Во-вторых, в первой фазе боя корабли часто меняли курс, что практически сводило на нет преимущества системы Поллена. Плохая видимость в ходе боя ставила под сомнение саму возможность эффективного применения систем автоматического управления огнём. В пользу этого свидетельствуют рапорты капитанов кораблей, участвовавших в «беге на юг», полученные в ответ на распоряжение Адмиралтейства предоставить графики со столиков Дрейера [310].