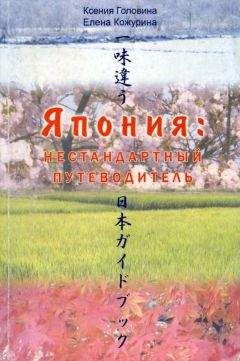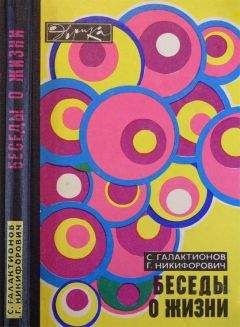Охота на электроовец. Большая книга искусственного интеллекта - Марков Сергей Николаевич
Первыми сотрудниками Минского стали студенты из клуба технического моделирования железной дороги, которые занимались созданием собственных релейных компьютеров, предназначенных для управления моделями поездов. Находившаяся в конце 1950-х гг. в распоряжении Минского ЭВМ (одна из нескольких в мире) была настоящей приманкой для увлечённых студентов, которые нередко пробирались в вычислительный центр, чтобы часами работать над собственными программами. Минский не стал наказывать студентов за незаконные проникновения в лабораторию и нецелевое использование университетской собственности, вместо этого он нанял их на работу. Позже он так отзывался о своих новых сотрудниках: «Они были странными. У них было что-то вроде ежегодного соревнования: кто быстрее других проедет по всем станциям Нью-Йоркского метро. Это занимало около 36 часов и требовало детальной проработки поездки, планирования, изучения расписания движения поездов. Эти ребята были сумасшедшими». Но именно такой род «сумасшествия» оказался полезным с точки зрения информатики. Особое внимание к деталям и неутолимое желание что-то создавать пришлись весьма кстати с точки зрения написания программ и проектирования аппаратуры. Лаборатория Минского процветала, и он не испытывал никаких проблем с поиском сотрудников. «Кто-нибудь писал сообщение или письмо: мне интересно то-то и то-то. На что я отвечал, что можно заглянуть и посмотреть, понравится ли работа у меня, — вспоминал он. — Человек приезжал на неделю или две, получал достаточно денег и уезжал, если ему не нравилось. Это действительно было весьма экстравагантно, но команда лаборатории была сообществом самозаряжающимся. У них был свой язык. Они могли сделать за три дня то, на что обычно уходит месяц. И если у нас в команде появлялся кто-то талантливый и харизматичный, мы принимали его с радостью».
Энтузиазм Минского щедро подпитывался ресурсами. Он вспоминал: «Я не писал ни единой заявки до 1980 года. Я просто всегда появлялся там, где был кто-нибудь вроде Джерри Визнера из Массачусетского технологического института. Мы с Джоном Маккарти начали работать над ИИ где-то в 1958 или 1959 г., как раз когда пришли в MIT. У нас была пара студентов-помощников. Однажды к нам заглянул Джерри Визнер и спросил, как идут дела. Мы сказали, что всё идёт неплохо, но было бы здорово, если у нас ещё было бы три-четыре аспиранта в помощь. Он сказал, мол, хорошо, зайдите к Генри Циммерману и скажите, пускай выделит вам лабораторию. Спустя два дня у нас была небольшая лаборатория на три-четыре комнаты и огромная куча денег, которую MIT получил от IBM за исследования в области вычислительной техники. Никто не знал, что делать с деньгами, поэтому их отдали нам» [1276].
Пейперт сразу же включился в работу команды Минского, которая на тот момент носила название «Группа по искусственному интеллекту» (Artificial Intelligence Group) [1277]. Причина, по которой маститый учёный и один из лидеров большого научного направления, коим в те годы был Минский, пригласил к себе в команду Пейперта (в одном из источников говорится «юного Пейперта», хотя разница в возрасте «мэтра» и «юноши» составляла меньше года), была довольно забавной. Вот как описывает её сам Пейперт: «В 1960 г. на Лондонском симпозиуме по теории информации, организованном Колином Черри, произошло событие, которое изменило мою карьеру… Я пришёл на это собрание как математик, интересующийся вычислительными идеями и теорией информации. Я пришёл туда с работой, содержавшей небольшую теорему. И то, что случилось, было наихудшим кошмаром для того, кто пришёл на собрание с теоремой. Выступавший передо мной докладчик продемонстрировал точно такую же теорему и доказал её столь же убедительно, как и я, правда несколько иным способом, но вы не можете рассчитывать на признание, имея в руках всего лишь немного другое доказательство. Однако то, что поначалу казалось кошмаром, превратилось на деле в отличный подарок. Человеком, опередившим меня, был Марвин Минский. Мы с Марвином пришли на эту встречу, по существу, с одной и той же работой, и это привело нас к сотрудничеству, которое продолжалось в течение многих лет…» [1278]
В редких случаях сотрудничество между двумя исследователями бывает столь продуктивным: лейбл «Минский и Пейперт» пришёл на смену лейблу «Минский и Маккарти». Вскоре усилиями нового дуэта были начаты новые исследовательские программы в области теории вычислений, робототехники, человеческого восприятия и детской психологии. Когда в 1968 г. Группа по искусственному интеллекту официально стала Лабораторией искусственного интеллекта MIT, Минский и Пейперт стали её содиректорами [1279].
В итоге группа коллег Минского превратилась в лидеров в академических кругах, в индустрии и даже в Голливуде. Когда фантаст Артур Кларк работал совместно со Стенли Кубриком над фильмом «2001 год: Космическая одиссея», он обратился к своему другу Минскому за помощью, чтобы тот помог создать образ системы искусственного интеллекта на космическом корабле. Вместе они создали HAL 9000, компьютер, который по сей день является олицетворением страхов перед злонамеренным искусственным разумом. Многие запомнили мигающий красный «глаз» HAL, похожий на индикатор машины ENIAC [1280].
Вообще, культурное влияние пионеров ИИ трудно переоценить. Хотя их фамилии мало что скажут современному обывателю, они порой стояли у истоков идей, общеизвестных в наши дни. Так, например, беседа Уоррена Мак-Каллока и режиссёра Романа Кройтора, использованная Артуром Липсеттом при создании короткометражного фильма «21-87», стала для Джорджа Лукаса источником концепции «силы» в киноэпопее «Звёздные войны». В целом короткометражка «21-87» оказала большое влияние на многие работы Лукаса [1281], [1282].
Первые успехи искусственного интеллекта в 1960-е гг. неизбежно привлекли к себе внимание общественности и, помимо восторгов, столь же неизбежно вызвали зависть, неприязнь и страхи со стороны отдельных людей. В 1965 г. философ Хьюберт Дрейфус опубликовал отчёт для корпорации RAND под названием «Алхимия и искусственный интеллект» (позже расширенный до книги «Чего не умеют компьютеры» (What Computers Still Can’t Do: A Critique of Artificial Reason, 1992)). В нём Дрейфус выступил с решительной критикой оптимистичных заявлений специалистов в области искусственного интеллекта, таких как Аллен Ньюэлл, Клифф Шоу, Герберт Саймон и прочие, презрительно назвав их «искусственной интеллигенцией» [artificial intelligentsia]. Говоря о нереалистичности оптимистичных заявлений энтузиастов искусственного интеллекта (например, заявления Саймона и Ньюэлла в 1957 г. о том, что в течение ближайших десяти лет цифровой компьютер сможет стать чемпионом мира по шахматам), Дрейфус утверждал, что во многих направлениях ИИ наблюдается резкое замедление, и предполагал, что это является свидетельством приближения к фундаментальным ограничениям [1283]. Иногда ему даже приписывают утверждение о том, что ни одна шахматная программа никогда не обыграет даже десятилетнего ребёнка. Впрочем, сам Дрейфус позднее отрицал, что когда-либо делал подобное заявление [1284].
Ньюэлл и Саймон также предсказывали в 1957 г., что в течение десяти лет цифровой компьютер сможет открыть и доказать важную новую математическую теорему. Их оптимизм был основан на первых успехах в этом направлении, достигнутых ещё в 1956 г., когда программа «Логический теоретик» (Logical Theorist) смогла доказать 38 из 52 теорем, приведённых в «Принципах математики» Рассела и Уайтхеда, а для теоремы о равнобедренном треугольнике (что углы, противолежащие боковым сторонам равнобедренного треугольника, равны), известной также под названием pons asinorum («мост осла»), обнаружила более короткое и изящное доказательство, чем приведённое в книге Рассела. Однако Journal of Symbolic Logic (Журнал символьной логики) отказался публиковать статью, в качестве одного из авторов которой была указана компьютерная программа. Позже, впрочем, выяснилось, что найденное «Логическим теоретиком» доказательство было известно Паппу Александрийскому ещё в IV в. н. э. [1285], [1286], [1287]