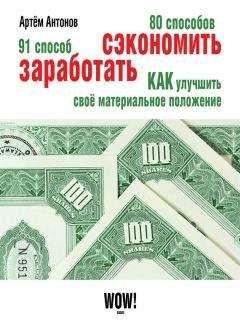Виктор Пелевин - Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами (фрагменты)
— Эх, — вздохнул Капустин, — видишь, как оно… С мексиканцами-то договоримся. И с Антихристом язык найдем. Нам бы только ночь простоять да день продержаться. А тут разные <…> (обсценное слово, обозначающее дурака, глупца. — Прим. ред.) под руку толкают. И советы, главное, дают. Каждая кухарка. А такой махиной о-го-го как осторожно управлять надо! Попробуй этим, — он кивнул в сторону окон, — объяснить, какой мир сегодня сложный… Заладили — «хитрый план, хитрый план». А план-то есть. Только он долгий.
— Понимаю, товарищ генерал, — учтиво склонил голову референт.
3 — фрагмент[3]
«Пишу вам, милая Елизавета Петровна, безо всякой надежды заслужить ваше прощение. К тому же события, о которых я собираюсь рассказать, так необычны, что могут показаться вам отчетом о белой горячке — а вы частенько видели меня пьяным в последние наши дни вместе.
Но вот вам слово офицера и дворянина, что каждая буква здесь верна и я не добавляю ни единого росчерка пера, чтобы сделать свою историю чуть занимательней — наоборот, приглушаю в иных местах краски и опускаю подробности, могущие показаться совсем уж невероятными.
Вы помните, наверное, тот мерзкий день в БаденБадене, когда я залез в ваш чемодан одолжить двадцать фридрихсдоров. Наша страстная близость казалась мне достаточной порукою тому, что это будет воспринято более в виде семейной неурядицы, чем уголовного происшествия. К тому же я полагал, вы не заметите пропажи до того, как я верну долг. А даже и заметив, поймете, что это одолжился я, и поглядите на это сквозь пальцы. Я уверен был, что отыграюсь, как только встану к столу.
Остальное вы знаете. Полицейская наглость, оскорбленная честь и — главное — слезы в ваших удивленных глазах, чего я не смогу забыть никогда.
Благодаря вашему ангельскому всепрощению обвинения были с меня сняты сразу после вашего отбытия; оставленные вами пятьдесят фридрихсдоров, увы, были мной проиграны точно так же, как и всё предыдущее — если не считать затрат на горячительные напитки.
Опущу печальный рассказ о дальнейшей моей судьбе — она легко представится вашему воображению; всё это многократно описано в романах и полицейских протоколах. Через месяц я был уже в своей деревеньке (вернее, в своем обветшалом родовом гнезде — мы, поместные дворяне, после эмансипации употребляем слова «в своей деревеньке» в том же смысле, как может это сделать пастух или кузнец).
При расставании нашем вы сказали, что готовитесь встать на путь революционной борьбы за народное счастье, ибо все остальные цели рядом с этой ничтожны. Шли дни, но слова эти никак не уходили из моей памяти.
Сердце мое восхищалось вашим выбором, но холодным умом я склонен был приписывать его вашему городскому образу жизни. Сам я, сельский обитатель, с младенчества насмотрелся на так называемый народ и полагаю, что в протянутую вами руку он или наплюет, или нагадит. Были у нас случаи, когда светлые юноши и девушки приезжали сюда из города с целью агитации — и в полицию их сдавали те самые мужики, которых они прибыли просвещать.
С другой стороны, вы совершенно правы в том отношении, что все иные жизненные цели ничтожны. Все, кроме любви.
Вы сказали, что любите меня, но борьба вам важнее.
Но я ведь помнил, как сверкали ваши ангельские глазки в баденских модных магазинах… Я, признаться, решил тогда, что дело в отсутствии у меня материальных средств для достойного существования, и, будь они на месте, ваше сердце могло бы рассудить чуть иначе. Отсюда и моя тяга к рулетке.
Словом, обнаружив себя заключенным в зловещий заколдованный круг, я скатился в мрачнейший шопенгауэровский пессимизм.
Не подумайте только, что я окончательный филистер. Я не верю в «освобождение народа», поскольку народ к свободе не готов и не понимает, что это такое — но я всем своим сердцем верю в европейский прогресс.
Именно по этой причине по прибытии домой у меня начался запой, столь характерный для скорбного отечества нашего, где человек благородного сердца и ума не может применить своих качеств, чтобы служить прогрессу на достойном поприще.
Скоро я дошел уже до совсем неблагородных напитков, коими спаивают русского мужика корчмари, и часто видел бесов, находя в этом горькое единение с Отчизной.
Если при слове «бесы» вы подумали на Достоевского, вы меня поняли неправильно. Я здесь говорю не о посещавших меня нигилистах, а о самых настоящих зеленых чертиках, коих наблюдает сильно пьющий человек.
Должен вам сказать, что слова «бесы» или «черти» применительно к этому видению подходят не вполне и указывают не столько на природу явления, сколько на суеверие русского народа, воспринимающего действительность сквозь призму религиозного мифа.
Да, они зеленые и небольшие — поменьше нас. Но отнюдь не такие маленькие, чтобы скакать по столу, лазить по лампе или вертеться под ногами, как пишут иногда сочинители, знающие их только понаслышке и не берущие даже труда лично увидеть ту картину, что тщатся нарисовать в воображении читателя.
Самое главное, у них нет ни рогов, ни хвостов, ни шерсти, ни свиных пятаков вместо носа, хотя лица их трудно назвать миловидными и располагающими. У них маленькие и как бы брезгливые рты с губами, сжатыми в эдакий клюв, маленькие же носики, как бы продолжающие этот клюв ко лбу, и большие, косо поставленные миндалевидные глаза желтоватого оттенка, немного похожие на кошачьи. Такой чертяка, привидевшись в сумраке, действительно способен напугать.
Никакого интереса к человеку они не проявляют и снуют вокруг словно бы по своим делам — а иногда носят на себе какието темные тюки и шпалы, не причиняющие им, впрочем, видимых неудобств. Они могут запросто залезть рукой себе прямо в живот или в бок, поковыряться там и вынуть пальцы назад, и на теле их не остается никакого следа. Еще у них большой и смешной, так сказать, гульфик — не вполне приличного вида и формы. Часто он красноватый или яркокрасный, словно они бахвалятся размером и видом своего мужского достоинства. Такие есть у всех, из чего я заключил, что они одного пола.
Несколько раз я замечал с балкона, что черти будто бы строят внизу какието будки, а один раз они даже взялись за подобие большого шатра из чегото вроде дранки — причем наши деревья и стены не представляли для их зыбких действий и перемещений никакого препятствия.
Я пробовал несколько раз окликнуть их со всей возможной вежливостью — и должен вам сказать, что они пугались и почти сразу исчезали из границ моего зрения, отчего я предположил, что воздействие водки на головной мозг позволяет различить их мир точно так же, как мир инфузорий становится виден в микроскоп. Кто же они на самом деле, я не пытался судить, будучи уверен, что европейская наука в своем развитии когда-нибудь найдет объяснение этому феномену.