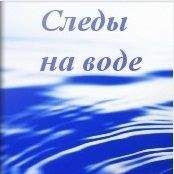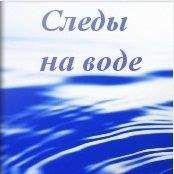Питер Бернстайн - Против богов: Укрощение риска
Можно было предположить, что в истории теории полезности и принятия решений будут доминировать представители семьи Бернулли, тем более что Даниил Бернулли был таким известным ученым. Но это не так: последующая история теории полезности была скорее рядом новых открытий, чем развитием первоначальных формулировок Бернулли.
Создавало ли проблемы то, что Бернулли писал на латыни? Кеннет Эрроу установил, что статья о новой теории измерения риска была переведена на немецкий язык только в 1896 году, а первый перевод ее на английский появился в американском научном журнале в 1954 году. Тем не менее в XIX веке математики еще пользовались латынью, и работы Гаусса, писавшего на этом языке, отнюдь не страдали от недостатка внимания. Все же выбор Бернулли латыни помогает объяснить, почему его достижения были в большей степени восприняты математиками, нежели экономистами и другими представителями гуманитарных наук.
Эрроу утверждает и другое. Бернулли обсуждал полезность в терминах чисел, в то время как последующие авторы предпочитали рассматривать ее как механизм определения приоритетов. Сказать: «Это мне нравится больше, чем то» — не то же самое, что сказать: «Это обойдется мне в х единиц полезности».
***Теория полезности была вновь открыта в конце XVIII века популярным английским философом Иеремией Бентамом (1748-1832). Вы еще и сейчас при случае можете увидеть его в Университетском колледже в Лондоне, где, в соответствии с его предсмертной волей, его мумия сидит в стеклянном ящике с восковой головой вместо настоящей и со шляпой между колен.
От главного труда Бентама «Принципы морали и законодательство» («The Principles of Morals and Legislation»), опубликованного в 1789 году, веет духом эпохи Просвещения:
«Природа отдала человечество в руки двух полновластных верховных правителей — страдания и удовольствия. Только они одни указывают, что нам следует делать, и определяют, что мы будем делать... Принцип полезности выражает осознание этой власти и подразумевает ее в качестве основы той системы, элементы которой должны воздвигнуть фабрику счастья силами разума и законности»[2]
Бентам потом объясняет, что он называет полезностью:
«...это свойство любого объекта, посредством которого он производит выгоду, преимущество, удовольствие, благо или счастье... когда его действие ведет скорее к умножению общественного блага, нежели к его уменьшению»
Здесь Бентам говорил о жизни вообще. Но экономисты XIX столетия ухватились за полезность как за средство постижения механизма выработки соглашения о цене между покупателем и продавцом. Этот окольный путь вывел их прямо на закон спроса и предложения.
Ведущие экономические модели XIX столетия изображали дело так: будущее ждет, пока продавцы и покупатели рассматривают имеющиеся у них возможности. Вопрос в том, какая из возможностей лучше. Возможность потерь вообще не учитывалась. В силу этого вопрос о неопределенности и деловой цикл в целом не отвлекали внимания и не рассматривались. Вместо этого экономисты проводили время, анализируя психологические и субъективные факторы, побуждающие людей платить такую-то цену за буханку хлеба или бутылку портвейна — или за десятую бутылку портвейна. Предположение, что кто-то не может купить даже одну бутылку портвейна, казалось немыслимым. Альфред Маршалл, выдающийся экономист Викторианской эпохи, как-то заметил:
«Не следует выбирать себе профессию, которая не может обеспечить хотя бы положение джентльмена»[3]
Уильям Стэнли Джевонс (Jevons), член общества бентамитов (утилитаристов), увлекавшийся математикой, был одним из главных разработчиков этого подхода. Он родился в Ливерпуле в 1837 году и с юности загорелся желанием стать ученым. Однако финансовые затруднения принудили его поступить на службу в пробирную палату Королевского монетного двора в Сиднее, Австралия, население которого под влиянием золотого бума быстро приближалось к 100 000 человек. Только через десять лет Джевонс смог возвратиться в Лондон, чтобы изучать экономику, и провел там большую часть своей жизни в качестве профессора политической экономии Университетского колледжа; он был первым после Уильяма Петти экономистом, ставшим членом Королевского общества. Академическое звание не помешало ему оказаться в числе первых, кто предложил отбросить слово «политическая» из словосочетания «политическая экономия», чтобы подчеркнуть уровень всеобщности, которого достигла эта наука.
Тем не менее его главный труд, опубликованный в 1871 году, был озаглавлен «Теория политической экономии» («The Theory of Political Economy»)[4]. Он открывает свое исследование утверждением, что «цена целиком зависит от полезности», и далее продолжает: «...нам нужно только тщательно проследить естественные законы изменения полезности в зависимости от количества принадлежащих нам предметов потребления, чтобы получить удовлетворительную теорию обмена».
Фактически это обращение к кардинальной идее Даниила Бернулли о том, что полезность чего-либо зависит от количеств того же самого, которые уже нам принадлежат. Дальше Джевонс дополняет это обобщение фразой в духе истинного джентльмена Викторианской эпохи: «Чем утонченнее и интеллектуальнее становятся наши запросы, тем менее возможно пресыщение».
Джевонс был уверен, что он разрешил проблему ценности утверждением, что возможность количественного представления любого отношения делает неуместными неопределенные обобщения, использовавшиеся до него экономической наукой. Он отмахнулся от проблемы неопределенности, заявив, что достаточно использовать вероятности, полученные из накопленного опыта и наблюдений: «Проверка правильности оценки вероятностей заключается в выяснении, насколько вычисления в среднем совпадают с фактами... Мы выполняем вычисления такого рода более или менее аккуратно во всех обычных житейских ситуациях».
Джевонс уделяет много страниц своей книги описанию усилий предшественников, направленных на использование математических методов в экономической науке, хотя даже не упоминает о работе Бернулли. Зато он не оставляет никаких сомнений относительно собственных достижений в этом направлении:
«Кто до Паскаля думал об измерении сомнения и уверенности? Кто мог предположить, что изучение ничтожных азартных игр может привести к созданию самой, пожалуй, утонченной ветви математической науки — теории вероятностей?
Теперь ни у кого не может возникнуть сомнения в том, что удовольствие, боль, труд, полезность, ценность, богатство, деньги, капитал и т. д. — это всё понятия, подлежащие квантификации; более того, все наши действия на поприще промышленности и торговли, несомненно, зависят от сравнения количеств выгоды и ущерба»
***Удовлетворенность Джевонса своими достижениями отражала характерное для Викторианской эпохи увлечение измерениями. Кван-тифицировались всё новые и новые аспекты действительности. Подъем научных исследований, вызванный запросами Промышленной революции, добавил мощный импульс этой тенденции.
Первая систематическая перепись населения была проведена в Британии уже в 1801 году, а использование статистики в страховом деле, непрерывно совершенствуясь, делалось повсеместным. Многие здравомыслящие мужчины и женщины обратились к социологическим измерениям в надежде на избавление от болезней индустриализации. Они намеревались улучшить жизнь в трущобах, бороться с преступностью, неграмотностью и пьянством среди обнищавших слоев общества.
Однако некоторые попытки применить измерения полезности для исследования и совершенствования общества отличались предельной непрактичностью. Фрэнсис Эджворт (Edgeworth), например, современник Джевонса и изобретательный экономист-математик, додумался до предложения разработать измеритель наслаждения — гедониметр, а уже в середине 1920-х годов блистательный молодой математик из Кембриджа Фрэнк Рэмси (Ramsay) изучал возможность создания психогальванометра.
Некоторые викторианские деятели протестовали против такого бурного развития измерений с привкусом материализма. В 1860 году, когда Флоренс Найтингейл после консультаций с Гальтоном и другими предложила профинансировать создание кафедры прикладной статистики в Оксфорде, она получила категорический отказ. Морис Кенделл (Kendall), крупный статистик и историк статистики, заметил по этому поводу:
«Кажется, наши главные университеты всё еще бормотали со своих башен последние колдовские заклинания Средневековья... После тридцати лет борьбы Флоренс сдалась»{1}[5]
Но стремление привнести в социальные науки ту же степень квантификации, какая воцарилась в естественных науках, с течением времени становилось все сильнее и сильнее. Экономисты постепенно усваивали словарь естественных наук. Джевонс, например, говорил о «механике» пользы и своекорыстия. Понятия равновесия, инерции, давления и функции стали общими для естествознания и экономической науки. В наше время представители мира финансов пользуются такими терминами, как финансовое конструирование, нейронные сети и генетические алгоритмы.