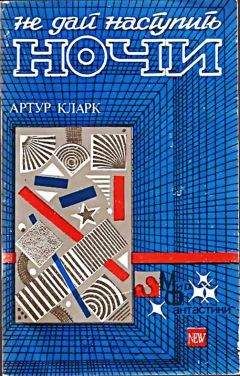Город и звезды - Кларк Артур Чарльз
3
После того, как Джезерак и родители исчезли из виду, Элвин долго лежал, стараясь ни о чем не думать. Чтобы никто не мог прервать его транс, он замкнул комнату вокруг себя.
Он не спал: он никогда не испытывал потребности в сне. Сон принадлежал миру ночи и дня, здесь же был только день. Его транс был ближайшим возможным приближением к этому позабытому состоянию, способным — он знал это — помочь собраться с мыслями.
Он узнал не так уж много нового для себя: почти обо всем, сообщенном Джезераком, он так или иначе успел догадаться заранее. Но одно дело догадываться, совсем другое — получить неопровержимое подтверждение догадок.
Как отразится это на его жизни и отразится ли вообще? Элвин не был уверен ни в чем, а неуверенность для него была вещью необычной. Возможно, никакой разницы не будет: если он не сможет полностью приспособиться к Диаспару в этой жизни, он сделает это в следующей — или в какой-либо из дальнейших.
Но не успев додумать эту мысль, разум Элвина отверг ее. Пусть Диаспар достаточен для всего остального человечества. Для него — нет. Да, он не сомневался, что и за тысячу жизней не исчерпать всех чудес города, не испробовать всех возможных путей бытия. Он мог бы заняться этим, но никогда не получит удовлетворения, пока не совершит нечто более значительное.
Оставался лишь один вопрос: что же именно следует совершить?
Этот вопрос без ответа вывел его из состояния дремотной мечты. В таком беспокойном настроении он, однако, не мог оставаться дома. В городе было лишь одно место, способное дать покой уму.
Когда он шагнул в коридор, часть стены замерцала и исчезла; ее поляризовавшиеся молекулы отозвались на лице дуновением, подобным слабому ветерку. Он мог добраться до цели многими путями и без всяких усилий, но предпочел идти пешком. Комната его находилась почти на основном уровне города, и через короткий проход он попал на спиральный спуск, ведущий на улицу. Игнорируя движущуюся дорогу, он пошел по боковому тротуару. Это было достаточно эксцентрично — ведь идти предстояло несколько километров. Но ходьба, успокаивая нервы, нравилась Элвину. Да и кроме того, по пути можно было увидеть столько всего, что казалось глупым, имея впереди вечность, мчаться мимо самых свежих чудес Диаспара.
Дело было в том, что для художников города — а в Диаспаре каждый был в каком-то смысле художником — стало традицией демонстрировать последние творения вдоль краев движущихся дорог, чтобы прохожие могли восхищаться их трудами. Таким образом, за несколько дней все население обычно успевало критически оценить каждое заслуживающее внимания произведение и высказать мнение о нем. Конечный вердикт, автоматически записанный специальными устройствами, которые пока никому не удалось подкупить или обмануть (а таких попыток делалось немало), решал судьбу шедевра. Если голосов набиралось достаточно, его матрица поступала в память города, так что любой желающий в любое время мог стать обладателем репродукции, совершенно неотличимой от оригинала.
Менее удачные вещи либо разлагались обратно на составляющие элементы, либо находили пристанище в домах друзей художника.
Во время прогулки лишь одно произведение искусства показалось Элвину привлекательным. Оно было сотворено просто из света и отдаленно напоминало распускающийся цветок. Медленно вырастая из крошечного цветного зернышка, цветок раскрывался сложными спиралями и драпировками, затем внезапно сжимался и цикл повторялся вновь. Но точность повторения не была абсолютной: ни один цикл не был идентичен предыдущему. Элвин проследил несколько пульсаций, и все они, несмотря на единый основной образ, различались трудноопределимыми подробностями.
Он понимал, чем его привлек этот образец бесплотной скульптуры. Его расширяющийся ритм создавал впечатление пространства и даже прорыва. По этой же причине он вряд ли понравился бы многим соотечественникам Элвина. Он запомнил имя художника, решив связаться с ним при первой же возможности.
Все дороги, подвижные и замершие, оканчивались при подходе к парку — зеленому сердцу города. Здесь, внутри круга в три с лишним километра в поперечнике, сохранялась память о том, чем была Земля в дни, когда пустыня еще не поглотила все за исключением Диаспара. Вначале шел широкий пояс травы, затем невысокие деревья, становившиеся все гуще по мере продвижения вперед. Дорога постепенно шла вниз, так что при выходе из неширокой полосы леса за деревьями исчезали все следы города.
Широкий поток, преградивший Элвину путь, назывался просто Рекой. Он не не имел какого-либо иного имени и не нуждался в нем. Местами реку пересекали узкие мостики. Она обтекала парк по замкнутому кругу, кое-где расширяясь и превращаясь в небольшие заводи. Элвину не казалось необычным, что быстро текущий поток может замыкаться сам на себя, пробежав менее шести километров. В сущности, он даже не задумывался над тем, не течет ли где-то на некоторых участках своего круга Река вверх по склону. В Диаспаре встречались вещи куда более странные.
Дюжина молодых людей купалась в одном из небольших заливов, и Элвин остановился взглянуть на них. Многих он знал в лицо, а то и по имени, и на секунду даже подумал присоединиться к их развлечениям. Но отягощенный грузом мыслей, Элвин в конце концов отказался от этого намерения, и ограничился ролью зрителя.
Внешне нельзя было определить, кто из этих молодых горожан вышел из Зала Творения в этом году, а кто прожил в Диаспаре столько же, сколько и Элвин. Значительные колебания в росте и весе не были связаны с возрастом. Люди просто рождались такими. Вообще говоря, кто был выше, тот был и старше, но с достоверностью это правило можно было применять, лишь говоря о столетиях.
Лицо служило более надежным показателем. Некоторые из новорожденных были выше Элвина, но их взгляд отличался незрелостью, отражая чувство изумления внезапно открывшимся им миром. В их сознании все еще удивительным образом дремали бесконечные вереницы жизней, о которых им вскоре предстояло вспомнить. Элвин завидовал новорожденным, но не был уверен в том, что они действительно заслуживают зависти. Перворожденность была драгоценным даром, который никогда не повторится. Как это замечательно — впервые, словно в рассветной свежести, наблюдать жизнь. Если б только мог он разделить мысли и чувства с себе подобными!
Тем не менее физически он был вылеплен по тому же образцу, что и дети, плескавшиеся в воде. За миллиард лет, начиная с основания Диаспара, человеческое тело не менялось: ведь типовой облик был навечно заморожен в Банках Памяти города. Однако оно существенно изменилось, по сравнению с несовершенной исходной моделью; впрочем, большинство переделок были незаметны глазу. За свою долгую историю человек перестраивал себя неоднократно, стремясь уничтожить болезни, унаследованные телом.
Исчезли такие необязательные принадлежности, как ногти и зубы. Волосы остались только на голове, на теле же — отсутствовали. Но более всего человека Рассветных Веков поразило бы наверное, исчезновение пупка; его необъяснимое отсутствие дало бы много пищи для размышлений. Неразрешимой на первый взгляд могла бы оказаться проблема различения мужчины и женщины. Тем не менее было бы несправедливо считать, что разницы между полами больше нет. При соответствующих обстоятельствах мужественность любого мужчины в Диаспаре была бы вне сомнения; просто его снаряжение, пока оно не требовалось, было теперь более тщательно упаковано — внутренняя укладка была серьезным улучшением изначально созданного Природой неэлегантного и, по сути, рискованного устройства.
Правда, воспроизводство уже не было задачей тела: оно являлось слишком важным делом, чтобы оставить его на долю азартных игр с хромосомами вместо игральных костей. Все же, несмотря на то, что о зачатии и рождении не сохранилось даже воспоминаний, секс оставался. Ведь даже в древности с воспроизводством была связана едва ли сотая часть сексуальной активности. Исчезновение даже этой ничтожной части изменило характер человеческого общества, равно как и смысл слов «отец» и «мать» — но желание сохранилось, несмотря на то, что его утоление значило теперь не больше, чем любое другое телесное удовольствие.

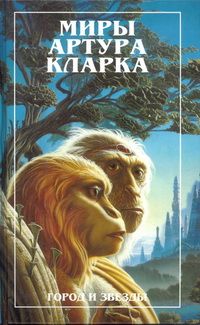
![Артур Кларк - Город и звезды [сборник]](/uploads/posts/books/64337/64337.jpg)