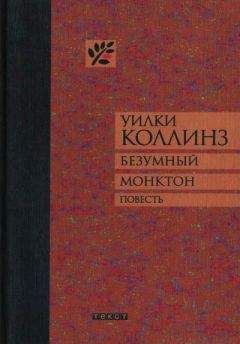Иван Панкеев - Копья летящего тень
Прокашлявшись и поправив узел шелкового платка, Кривошеев начал:
— Я внимательно слушал все выступления, но роль судьи на себя не беру. Я ведь только подвожу итог, выявляю мнение большинства. Думаю, это самый демократичный подход. Сам я могу ошибиться, в коллективном же мнении вероятность ошибки меньше…
Вот так, хладнокровно, интеллигентно, безжалостно раздавить веру Лилиан в собственные способности. Пусть знает, что ее место — среди посредственностей, среди «таких, как все». Пусть зарубит себе как следует на своем полурусском конопатом носу, что все эти ее еретики, доминиканские тверди, цветущие на песке верески и прочая балтийская дребедень никому — ну совершенно никому! — здесь не нужна. И пусть она устрашится своего одиночества, пусть замерзнет в своей гордыне. И когда она приползет наконец на брюхе, как побитая собака, в теплое, хотя и вонючее, стадо, тогда он, Михаил Кривошеев, возможно, бросит ей какую-нибудь вываренную, обглоданную, обсосанную косточку!
Вот тогда, Лилианчик, ты и станешь советским поэтом!
— Предлагаю сделать антракт, — сказал Кривошеев, почувствовав вдруг какую-то смертельную скуку. Первым встав из-за стола, он торопливо скрылся в боковой комнатке и щелкнул замком.
Присев на широкий подоконник, Лилиан безучастно смотрела на улицу. Пустой, безжизненный город, наполненный тишиной. И эта тишина тоже была безжизненной, она не предвещала ничего хорошего. В этой тишине таилось что-то злое. Но не взрыв, не шторм, не революция — нет! В ней таился более полувека зреющий гнойный нарыв. Зловонный гнойник тотальной лжи, злодейства, преступлений. И прорваться он должен был столь же тихо, как и зрел: настанет день, и трупная, серо-желтая жижа медленно поползет по этим улицам, по стенам этих зданий, меняя красные флаги на какие-то иные, забираясь в души людей, давно уже отравленные незримыми болезнетворными испарениями…
Ждать, когда это произойдет? Или…
Нет, она не может ждать, жизнь слишком коротка. Она не должна терять ни одного дня, ни одного мгновенья. Построить в своей душе дом! Обитель поэта.
Кто-то тронул Лилиан за локоть. Бочаров. Он слабо улыбался ей, он сочувствовал ей в ее неуспехе. Конечно, он пытался в ходе обсуждения как-то защитить Лилиан, вернее, оправдать… Оправдать? Оправдать в том, что она хотела быть собой и никем иным? Да, ведь с точки зрения «таких, как все» это была непозволительная роскошь! Это было вызывающе! Случилось самое худшее из всего, что могло произойти: Лилиан отторгли от теплого стада. Теперь она была одиночкой. Бездомной. И Бочаров ничем не мог ей помочь.
Впрочем, в глубине души Бочаров осознавал, что помочь он ей все-таки мог — став таким, как и она, бездомным, одиночкой, еретиком. Но его здравый смысл противился этому. Слишком уж большой риск оказаться за бортом. И ради чего? Ради каких-то мимолетных иллюзий?..
Вздохнув, Бочаров сел рядом с Лилиан, исподлобья посматривая на нее.
Во втором «отделении» с Кривошеевым что-то произошло: он мямлил, с трудом выговаривал слова, подолгу собирался с мыслями.
— Да он просто пьян, — шепнул Бочаров Лилиан. — Успел нализаться в антракте!
Все шептались и пересмеивались. Строгого вида учительница, не пропускавшая ни одного собрания, смущенно протирала кружевным платочком толстые стекла очков, делая вид, что она при всем этом не присутствует.
— Мне н-н-нужно с т-т-тобой поговорить! — на одном пьяном дыхании выкрикнул Кривошеев и повернул к Лилиан красное, с влажными желтыми усами лицо. В его мутных глазах шевелилась страсть. — Но не при всех. — Рывком встав со своего председательского места, Кривошеев качнулся и пошел, петляя между беспорядочно расставленными стульями, прямо к Лилиан. — …мне н-н-нужно с глазу на глаз, — бормотал он, не обращая внимания на ядовитый смех и похабные замечания начинающих поэтов.
— Валяй при всех, Миша! — крикнул кто-то. — Здесь все свои!
Этот голос на миг отрезвил Кривошеева.
— Да, ты прав… надо сначала… одеться… — пробормотал он, то и дело икая, и метнулся в раздевалку, при этом дважды споткнувшись о коварно вытянутые ноги молодых поэтов.
В вестибюле редакции «Факела» стоял такой непристойный шум, что Лилиан даже показалось, что парадный правительственный портрет, висевший над председательским местом, накренился набок и Леонид Ильич, сдвинув свои бородавчатые брови, изловчился и плюнул на собравшихся, попав при этом на истертый портфель ни в чем не повинной учительницы русского языка.
— Фельетон в газету! — вдруг не своим голосом завопила она. — Пусть об этом узнает общественность!
Леонид Ильич надул обрюзгшие щеки — и смрадный, застойный, болотно-коммунистический дух снизошел на собравшихся, еще больше озлобляя озлобленных, отнимая у колеблющихся последние сомнения и надежды, высасывая из непокорных остатки мужества.
В вестибюле опять появился Кривошеев. Косо застегнув пальто и надев шапку «ухом» на лоб, он тщетно пытался прикурить сигарету с обратного конца. Какой-то еще сохранивший остатки человеколюбия молодой поэт дал ему другую сигарету и помог прикурить с нужного конца. Кривошеев чуть не прослезился от такой заботливости. Вдохнув в себя освежающий дым, он с восторгом и надеждой пропел:
— Лилиа-а-а-анчик!
Рука Лилиан угрожающе потянулась к плошке с круглым кактусом.
— Не надо, — испуганно шепнул ей Бочаров, — будет еще хуже!
— Я положи-и-ил… гла-а-аз… на тебя-я-я-яя-я!!! — с восторгом вопил Кривошеев. — Еще тогда-а-а-а.
Воцарилась совершенно жуткая тишина. Слышно было, как на улице трещат искры от соскочившей с проводов штанги троллейбуса, как водитель объявляет следующую остановку…
— Когда натравил на меня кэгэбэшника, что ли? — язвительно спросила Лилиан.
Бочаров испуганно дернул ее за руку.
— Идем со мно-о-о-о-ой! — пел Кривошеев. — В рестора-а-а-н… куда хочешь…
Поэтическое воображение Михаила Кривошеева явно достигло своего климакса. Он уже представлял себе, как знакомая официантка спешно накрывает на стол, как Лилиан, этот своенравный полевой цветочек, становится все более и более податливой, как его потная от вожделения рука пробирается к ней за пазуху, ощупывает тугие соски, а другая рука в это время лезет под юбку… Вот она, поэзия! Вот оно, вдохновенье!
Цепляясь за перилла и с трудом находя ступени, Михаил Кривошеев шагнул на лестницу и с грохотом покатился вниз.
25
Директорский кабинет был не самым уютным местом в музыкальном училище. Холодный блеск полированной мебели, парадный портрет Леонида Ильича, почетные грамоты, смахивающие на индульгенции, запах инквизиторской пыли, исходящий от толстых конторских книг, графин с желтоватой водой на случай слишком уж затянувшихся аутодафе…