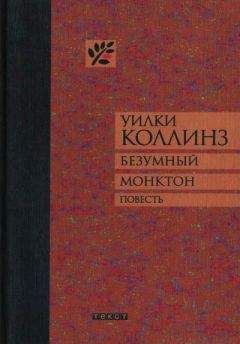Иван Панкеев - Копья летящего тень
Лилиан вопросительно уставилась на него.
— Здесь слишком шумно, — невозмутимо продолжал Жиль-Баба. — Пойдем ко мне, поговорим!
— Жиль пишет диссертацию о современной русской поэзии, — пояснил Венсан, — собирает материал.
Лилиан снова фыркнула. У нее не было никакого желания стать «материалом» для этого африканца. Искоса посмотрев туда, где сидел Дэвид Бэст, она заметила, как маленькая, очаровательная, словно фея, белокурая Ингер взяла его за руку и увела из комнаты. «Это конец… — в отчаянии подумала Лилиан. — Конец… Я была слепой. Я слушала Высокую мессу, не имея никакого представлении о реальном Дэвиде…»
— Ладно, идем… — с сокрушенным вздохом произнесла она, не испытывая больше никакого интереса к происходящему. Какое ей было дело до Жиля-Бабы, до этих орущих датчан?
Слякотный, неудачный, вычеркнутый из жизни день. Много, много дней, целая полоса жизни…
— Пошли, Лилиан, — весело сказал Жиль-Баба и фамильярно подтолкнул ее вперед.
* * *Заварив в маленьком кофейнике изрядную порцию кофе, Жиль поставил на стол две чашки и, немного подождав, вылил в них густую черную жижу. Положил на стол пачку сигарет, трубку из темного дерева, коробку с табаком — и уставился на Лилиан, молча наблюдавшую за его приготовлениями.
Она тоже пристально смотрела на него. Что он от нее хотел?
Глотнув кофе, Жиль принялся раскуривать трубку. Его покатый лоб то и дело покрывался продольными морщинами, лицо принимало почти страдальческое выражение.
Жиль-Баба размышлял.
Массивная темно-коричневая оправа очков, сползших на кончик приплюснутого носа, черные раскосые глаза, толстые губы, обкуренная, под цвет его кожи, трубка — все это придавало Жилю странное сходство с шаманом.
— Я запомнил одно место из твоего стихотворения, — неожиданно сказал он и, сильно грассируя и изменяя ударение в словах, прочитал на память отрывок. — И как это у тебя получается? Я бы не смог так написать даже по-французски!
Лилиан молча пожала плечами.
— Ты хотела бы, чтобы твои стихи были напечатаны в Париже?
— Да, пожалуй, — усмехнулась Лилиан, не принимая всерьез слова Жиля. — Мои стихи не мешало бы напечатать в Париже!
— Я не шучу, — серьезно и лаконично заметил Жиль. — Если ты пойдешь нам навстречу, я все устрою… твои стихи будут напечатаны в оригинале, по-русски, но с небольшим предисловием…
— С антисоветским, — уточнила Лилиан.
— Однако… — осекся Жиль-Баба, — ты, я вижу, совсем не наивна. Ну так вот, мы напишем, что только благодаря нам… — он снова осекся, — …молодые поэты в России получают признание!
— Нам — это кому? — холодно спросила Лилиан.
Сделав несколько глубоких затяжек, Жиль выпустил в сторону синеватый дымок, с любопытством посмотрел на Лилиан из-за сползших на кончик носа очков и сказал:
— Ты, конечно, много понимаешь. Но тебе следует подумать. И я тебя не тороплю.
Лилиан ничего не ответила.
«Печататься на Западе… — думала она, глядя куда-то мимо Жиля. — Для этого мне не нужен Жиль-Баба. Достаточно папы Лембита. Но это не мой путь. Мои стихи рождаются здесь, и даже если им суждено бесследно уйти в эту землю, моя жизнь не будет напрасной: мои стихи будут тем пластом чернозема, на котором, возможно, вырастет что-то стоящее…»
Лилиан ушла, так ничего и не пообещав разочарованному Жилю.
Перешагивая через лужи, она брела неизвестно куда. Тягучая, болезненная тоска заставляла ее то краснеть от внезапного стыда, то ежиться от дьявольского озноба. Дэвид Бэст и красивая, как фея, маленькая датчанка. Сделка, предложенная ей Жилем… Она села в полупустой троллейбус. Бесконечные капли и струйки воды на стеклах, тусклый осенний пейзаж… Поздняя осень вела свою разрушительную работу, смывая холодным дождем последние краски, срывая редкие, уже ненужные листья. Осень медленно погружала природу, большой город и людей в тускнеющий с каждым днем полусвет. «Мои ветхие иллюзии, — подумала Лилиан, — словно эти мертвые, скрученные листья… Надо что-то менять!»
Дождь колотил по стеклам троллейбуса. Тоска, уныние, безнадежность. Повседневные упреки матери, редкие письма отца. Неопределенность в жизни. Ненадежность. Неуверенность.
Она везде была чужой, в любом окружении. У нее не было никакой опоры в жизни, кроме… кроме ее собственных стихов! Кроме ее призрачных встреч с Бегущей По Волнам!
Троллейбус ехал по мосту, и в черной, холодной воде тускло отражались фонари набережной. «Когда река замерзнет, я буду приходить к тебе по льду…» Полупустой троллейбус. Одна, совершенно одна.
Лилиан сидела с закрытыми глазами, и по ее щекам, словно капли дождя по стеклу, катились слезы.
Тобою становлюсь.
Как флаг в моей душе —
Цвета твоих изменчивых желаний,
Как музыка, чуть слышная уже,
Как звездный дождь нечаянных признаний.
Как парусник стремлюсь
В распахнутой дали,
Захваченный внезапной синевою,
К пристанищу единственной земли,
Что названа нечаянно Тобою…
24
Пока Лилиан читала свои стихи, стояла такая тишина, словно враждующие между собой партии эстетов и работяг смогли наконец доказать друг другу свою правоту. Ее «Балтийские богатеи» явились для всех вестью — и мелодия ее последнего стихотворения все еще висела в воздухе, насыщая его незнакомыми, вызывающими тревогу запахами.
Кого она звала за собой? Куда манила? Кто мог следовать за ней?
Многие сидели, нахмурившись, опустив голову и явно не желая никаких дискуссий. Им было все ясно, они не желали губить свою перспективную, многообещающую жизнь. Губить размышлениями о совершенно потусторонних, не имеющих никакого отношения к действительности вещах. Кое-кто встал и пошел в раздевалку.
Другим же, напротив, не терпелось выступить. Женя Лютый тянул вверх руку, его бледное лицо покрылось пятнами румянца.
— Это не стихи, — кричал он с места, — это не поэзия!
Поднялся такой шум, что Лилиан, полуприкрыв глаза, мысленно искала потайную дверь, чтобы улизнуть от всех этих людей, жадно рвущих на куски ее стихотворения.
Михаил Кривошеев, с отвислыми, бледно-желтыми усами, развязавшимся под несвежим воротничком шелковым платком, в «комиссарской» кожаной куртке, с удовлетворением смотрел со своего председательского места на молодую, беснующуюся поэтическую поросль — смотрел и ухмылялся. Он и сам когда-то был таким. Горячим, неопытным и самое главное — глупым. Если ты не член Великой Партии, если твой дядя не министр или, на худой конец, не директор какой-нибудь столовой, то тебе в Большой Поэзии — с большой буквы! — делать нечего, твои книги никогда не будут издаваться. Разумеется, ты можешь писать для себя, так сказать, «в стол» — сколько угодно, на радость вездесущим кэгэбэшникам. Но печататься — это совсем другое дело. И таким, как Лилиан Лехт, на это вообще не стоит рассчитывать. Если только… да, если она вовремя не обзаведется влиятельным… э-э-э-э… покровителем, таким примеру, как он, Михаил Кривошеев! Это для нее единственная возможность напечататься. Но она, судя по всему, еще очень глупа. И к тому же горда, а это уж совсем никуда не годится. Она настолько горда, что даже не удосужилась поинтересоваться, кто рекомендовал ее стихи в газету «Факел». А ведь это сделал он, Михаил Кривошеев! И слишком долго он ждать не намерен. Литобъединение посещает много красивых девушек.