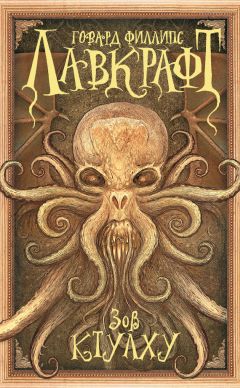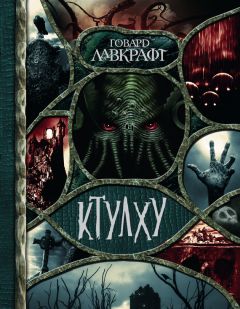Говард Лавкрафт - Зов Ктулху
Уилкокс по-прежнему проживал в доме «Флер де Лис», оказавшемся прескверной викторианской имитацией бретонского архитектурного стиля семнадцатого столетия, нахально выставившей свой оштукатуренный фасад из скромной шеренги милых колонистских домиков, построенных на древнем холме под сенью церкви, увенчанной прекраснейшим в Америке георгианским шпилем. Я застал его за работой и, оглядев расставленные тут и там скульптуры, тотчас же оценил его высочайший и оригинальнейший талант. Я уверен, что в свое время о нем заговорят как об одном из лучших ваятелей-декадентов. Ему удалось воплотить в глине и мраморе тот томительно-страшный мир ночных видений и фантазий, который Артур Мейчен отобразил в своей прозе, а Кларк Эштон Смит — в поэзии и живописи.
Смуглый, хрупкий, не слишком опрятный на вид, он вяло откликнулся на мой стук в дверь, а затем, не поднимаясь со стула, справился, по какому делу я пожаловал. Когда я представился, он несколько оживился и сделал вид, что мое появление заинтересовало его, но не более того. Его можно было понять: ведь мой дед, возбудив любопытство скульптора своими попытками разгадать его странные сны, при этом так и не объяснил, зачем ему все это понадобилось. Я тоже не стал распространяться на эту тему, но попытался как можно деликатнее вызвать его на откровенность. Очень скоро я убедился в его полнейшей искренности — во всяком случае, о своих сновидениях он толковал в манере, не оставляющей в этом никаких сомнений. По-видимому, они оставили глубокий след в его душе и необыкновенно повлияли на все его творчество — одна из его ужасающих скульптур особенно потрясла меня способностью навевать самые мрачные мысли. Ее прототипом мог быть только барельеф, вызванный к жизни его же собственным жутким сновидением, но более четкие очертания скульптуры, несомненно, сформировались под руками художника. Конечно же, это было то самое гигантское чудовище, о котором он бессвязно говорил в бреду. Вскоре я до конца уверился в том, что Уилкокс и в самом деле ничего не знал о тайном культе, за исключением, пожалуй, ничтожных подробностей, запомнившихся ему в ходе крайне пристрастного допроса, которому он подвергся со стороны моего деда. И все же я отчаянно цеплялся за мысль, что мой собеседник мог бы приобрести свои ужасные впечатления иным путем.
О своих снах он рассказывал все в той же причудливой, романтической манере, позволявшей с леденящей душу отчетливостью представить циклопический город, сложенный из илистых, позеленевших от влаги камней (геометрия его, пояснил Уилкокс каким-то странным тоном, была абсолютно невероятной), и услышать этот зловещий, настойчивый, непрерывный полузов-полувнушение из-под Земли: «Ктулху фхтагн, ктулху фхтагн…» Я знал, что эти слова составляли часть жуткой фразы, повествующей о полусонном бдении мертвого Ктулху в каменной гробнице, и признаюсь, что, несмотря на весь мой рационализм, они потрясли меня до глубины души. И снова мне показалось, что Уилкокс откуда-нибудь да прослышал о дьявольском культе — просто этот факт затерялся в массе столь же ужасных сведений, которые он когда-то почерпнул из книг или измыслил собственным умом. Могло же случиться так, что при столь обостренной чувствительности, свойственной молодому скульптору, мимолетно навеянный образ нашел подсознательное воплощение в его снах, затем в барельефе и, наконец, в страшной скульптуре, которую я увидел в его мастерской. В таком случае обман, которому поддался мой дед, носил абсолютно невинный характер. Явно относясь к весьма впечатлительному и не очень воспитанному типу людей, молодой человек не совсем отвечал моему вкусу, но при этом я не мог отказать ему ни в гениальности, ни в порядочности. Распрощался я с ним вполне дружески, пожелав успеха во всех его талантливых начинаниях.
Сущность дьявольского культа по-прежнему волновала меня самым странным образом, а временами я даже тешил себя мечтой о личной славе, которую могли бы доставить мне изыскания в этой области. Я побывал в Новом Орлеане, долго расспрашивал Леграсса и его коллег о ночном полицейском рейде и часами всматривался в ужасную статуэтку. Кроме того, мне удалось побеседовать кое с кем из оставшихся в живых болотных пленников. Старый Кастро, к сожалению, умер несколько лет тому назад. Все, что мне довелось услышать из первых уст, было по сути лишь более живым и подробным подтверждением записей моего деда, но от этого интерес мой только возрастал — я ощущал все большую уверенность в том, что нащупал реальный след древнего и глубоко затаившегося верования, и это открытие могло поставить меня в ряд выдающихся антропологов. Я все еще считал себя убежденным материалистом (на самом деле, мне просто хотелось им быть) и с почти необъяснимым упорством не принимал в расчет полное совпадение по времени и содержанию записей профессора Энджела со зловещими фактами, о которых столь упорно толковали газетные вырезки.
Но здесь существовало еще одно обстоятельство. Прежде я лишь подозревал, а теперь, боюсь, уже вполне уверен в том, что смерть моего деда отнюдь не была естественной. Я уже упоминал о том, что он упал замертво на узкой улочке, ведущей к его дому от старого припортового района, кишмя кишащего чужеземными ублюдками, после того, как его неосторожно толкнул какой-то негритянский матрос. Я помнил о преследованиях, каким подверглись луизианские болотные идолопоклонники, большую часть которых составляли матросы-полукровки, и ничуть не удивился бы, узнав о злодейском использовании ими отравленных игл и прочих тайных способах умерщвления людей, таких же древних и безжалостных, как и сами их запретные верования и обряды. Правда, Леграсса и его людей пока не трогали, но мне доподлинно известно, что один норвежский моряк, видевший статуэтку, теперь уже мертв. Разве не могли слухи о дотошных исследованиях, предпринятых моим дедом после встречи со скульптором, достигнуть чьих-либо недобрых ушей? Теперь-то я знаю — профессор Энджел умер потому, что знал или хотел знать слишком много. И неизвестно еще, не погибну ли я сам, последовав по его пути?
III
Безумие, вышедшее из моря
Если небеса пожелают когда-либо снизойти до меня своей милостью, пусть сотрут они без остатка все последствия той злосчастной случайности, что явилась мне в образе пожелтевшего бумажного листа. Листок этот никак нельзя отнести к обычным вещам, на какие я мог бы наткнуться в круге своих повседневных дел — то был старый номер австралийской газеты «Сидней Буллитин» от 18 апреля 1925 года. Как это ни странно, но его обошло своим вниманием даже бдительное пресс-бюро, в свое время жадно выискивавшее повсюду материалы для научных изысканий моего деда.