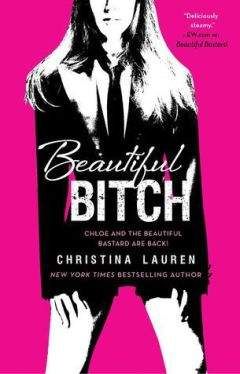Генри Джеймс - Веселый уголок
Он был полностью убежден, что что-то случилось между этими двумя моментами, потому что, случись это раньше (то есть до его первого обхода всех комнат в этот вечер), он не мог бы не заметить, что на его пути совсем необычно возникла эта преграда. А вот уже после первого обхода он пережил такие исключительные волнения, которые вполне могли смазать в его памяти то, что им непосредственно предшествовало; и он попытался уверить себя, что он, может быть, заходил в эту комнату, а выходя, нечаянно, машинально потянул дверь за собой. Беда только в том, что это было именно то, чего он никогда не делал; это было бы, можно сказать, против всей его системы, сутью которой было сохранить свободными все далекие перспективы, какие имелись в доме. Брайдону с самого начала мерещилась одна и та же картина (он сам это прекрасно сознавал): в дальнем конце одной из этих длинных прямых дорожек странное появление его сбитой с толку жертвы (какая ирония заключалась теперь в этом уже столь мало подходящем определении) — вот та форма успеха, которую облюбовало его воображение, каждый раз внося в нее, кроме того, какие-нибудь изящные подробности. Сто раз он испытывал волнение победы, которое затем сникало; сто раз он мысленно восклицал; «Вот он!», поддаваясь какой-то мимолетной галлюцинации. Самый дом весьма благоприятствовал именно таким представлениям; Брайдон мог только дивиться вкусу и архитектурной моде того давнего времени, столь пристрастной к умножению дверей и в этом прямо противоположной теперешней тенденции чуть ли не вовсе их упразднить; во всяком случае, такая архитектурная его особенность в какой-то мере, возможно, даже и породила это наваждение — уверенность, что он вот-вот увидит то, что искал, как в подзорную трубу, где его можно будет сфокусировать и изучать в этой уменьшающей перспективе с полным удобством и даже с опорой для локтя.
Такими мыслями было загружено тогда его внимание, и этого вполне хватало, чтобы придать недоброе значение тому, что он видел. Раз он не мог, ни по какой своей оплошности, сам закрыть, эту дверь, раз он этого не сделал, и это было немыслимо, что же оставалось думать, как не то, что тут участвовал еще другой фактор. Минуту назад Брайдон, как ему казалось, почти уловил на своем лице его дыханье, — но когда же он был, этот фактор, так близок ему, так реален, как сейчас, в этом простом, логическом, вполне человеческом действии? То есть оно было так логично, что казалось вполне человеческим, а вот каким оно представлялось сейчас Брайдону, когда он, слегка задыхаясь, чувствовал, что глаза у него чуть не выходят из орбит? Ах, на этот раз они наконец оба здесь, эти две противоположные его проекции, и на этот раз, острее, чем когда-либо, вставал вопрос об опасности. И с ним — тоже острее, чем когда-либо, — вопрос о мужестве. Плоское лицо двери как будто говорило ему: «Ну-ка, покажи, сколько его у тебя есть!» Оно пялилось на него, таращилось, бросало вызов, торопило избрать одно из двух — или он распахнет сейчас эту дверь, или нет. Ах, переживать все это — значило думать, а думать, как хорошо понимал Брайдон, стоя здесь, пока секунды, скользят мимо, значит не действовать, значит, что он уже не действовал до сих пор, и, главное, в чем была наигоршая боль и обида, что он и не будет действовать, что придется все это воспринять совсем иначе, в каком-то новом и грозном свете. Долго ли он вот так медлил, долго ли рассуждал? Не было средств это измерить, так как его собственный внутренний ритм уже изменился, может быть, вследствие именно своей напряженности. И сейчас, когда тот был уже заперт там, затравленный, хотя и непокоренный, когда чудесным образом все уже было явно и ощутимо доказано, когда об этом уже возвещалось словно кричащей вывеской, — именно теперь эта перестановка ударения в корне меняла всю ситуацию, и Брайдон под конец отчетливо понял, в чем состояла эта перемена.
Она состояла в том, что он теперь как бы получил иное указание, как бы намек свыше на ценность для него Благоразумия! Оно, конечно, давно уже назревало, это откровение; что ж, оно могло не торопиться, могло точно выбрать время — тот самый миг, когда Брайдон еще колебался на пороге, еще не сделал шага ни вперед, ни назад. И вот с ним происходило самое странное на свете: сейчас, когда сделай он только десяток шагов и нажми рукой на щеколду или, если надо, просто плечом или коленом на филенку двери, и весь его первоначальный голод был бы утолен, все его великое любопытство удовлетворено, вся тревога успокоена — да, это было поразительно, — но было также и нечто утонченное и благородное в том, что вся его яростная настойчивость вдруг развеялась от одного прикосновения. Благоразумие — да, он ухватился за это, но не столько потому, что это сберегало его нервы или даже, может быть, жизнь, как по более важной причине — это спасало ситуацию. Когда я здесь говорю «ухватился», я чувствую созвучие этого выражения с тем фактом, что Брайдон сейчас опять, как и несколько времени назад, обрел опору как бы в чем-то вне его лежащем, и немного погодя он уже смог, как и в тот раз, опять двинуться и пересек комнату прямо к закрытой двери. Он не дотронулся до нее, хотя теперь ему казалось, что он мог бы, если б захотел; но он хотел только подождать там немного, чтобы дать понять, чтобы доказать, что он не хочет ее трогать. Теперь он занимал отличную от всех прежних позицию — вплотную к тонкой перегородке, которая одна только и препятствовала раскрытию тайны, но стоял он опустив глаза и разведя руки, весь застывший в нарочитой неподвижности. Он слушал так, как если бы там было что услышать, но эта поза, пока он ее сохранял, сама по себе уже была его ясным ответом: «Раз ты не хочешь, хорошо; я пощажу тебя, я уступлю. Ты тронул меня как мольбой о пощаде; ты убедил меня, что по каким-то высшим и непоколебимым причинам — что я о них знаю? — мы оба пострадали бы. Но я отнесусь к ним с уважением, и, хотя мне выпало такое преимущество, какое, я думаю, никогда еще не было доступно человеку, я ухожу и больше никогда, честью в том клянусь, не буду снова пробовать. Так что покойся в мире и дай покой и мне!»
Таков был для Брайдона внутренний смысл этой последней его демонстрации — торжественной, размеренной и целенаправленной, какой он и хотел ее сделать. Он мысленно закончил свою речь и отвернулся — и только теперь почувствовал, как глубоко он был взволнован. Он прошел обратно в соседнюю комнату, взял свою свечу, которая, как он заметил, догорела почти до самого подсвечника, и, попутно отметив также, как резок звук его шагов, хоть он и старался ступать легко, он в одну минуту, сам не приметив как, уже очутился на другой стороне дома. Тут он сделал то, чего до сих пор никогда не делал в такие часы, — наполовину открыл окно, из тех, что выходили на фасад, и впустил ночной воздух; раньше он побоялся бы этим разрушить колдовство, царившее в доме. Но теперь это было не важно, колдовство все равно уже было разрушено — разрушено тем, что он уступил и признал себя побежденным, так что впредь и приходить в дом уже не было смысла. Пустая улица — ее иная, чуждая жизнь, так еще подчеркнутая этой огромной, залитой светом пустотой, — была рядом — доступная для зова, для прикосновения, и Брайдон уже чувствовал себя там, в ней, даже еще не сходя со своего столь высокого насеста; и он высматривал что-нибудь утешительно-заурядное, какую-нибудь вульгарно-человеческую черточку: появление мусорщика или вора, какой-либо ночной птицы, самого низшего разряда. Он был бы рад и такому признаку жизни, приветствовал бы даже медлительную поступь своего друга полисмена, которого до сих пор всегда старался избегать, даже не был уверен, что ему не захотелось бы, появись тот сейчас на улице, вступить с ним в какой-то контакт, окликнуть его под каким-нибудь предлогом со своего четвертого этажа. Но какой предлог был бы не слишком нелеп и не слишком для него унизителен, какое объяснение помогло бы ему сохранить достоинство и его имени не попасть в газеты — это ему самому было неясно. Он был так занят мыслью о том, как высказать свое новоявленное Благоразумие, выполняя тем клятву, которую только что дал своему противнику, что эта задача заслоняла все остальное, с тем ироническим результатом, что Брайдон на время как бы утратил всякое чувство меры. Если бы он сейчас заметил прислоненную к фасаду стремянку — одну из тех головокружительных вертикалей, которыми пользуются маляры и кровельщики и, случается, оставляют до утра на месте, уж он как-нибудь ухитрился бы, сидя верхом на окне, зацепить ее рукой и ногой и одолеть этот способ спуска. Если бы ему сейчас попалось под руку такое нехитрое приспособление на случай пожара, какие он, ночуя в гостиницах, иногда находил у себя в номере — вроде каната с узлами или спасательного полотнища, — он немедля бы им воспользовался в доказательство своей нынешней, ну, скажем, деликатности. Но он напрасно так пестовал в себе это чувство; при отсутствии всякого отклика на него из внешнего мира оно, спустя время — долгое или короткое, Брайдон не мог бы сказать, — снова сникло до уровня лишь смутной боли. Брайдону чудилось, что он уже целую вечность дожидается хоть какого-нибудь движения в этой огромной угрюмой тишине; казалось, самая жизнь города была заколдована — так противоестественно в обе стороны вдоль хорошо знакомых и довольно-таки невзрачных домов длилось без конца это безлюдье и молчанье. Неужели, спросил он сам себя, неужели эти дома с их жестокими лицами, уже просвечивающими серой бледностью сквозь редеющий сумрак, всегда так же мало, как сейчас, отвечали любой потребности его духа? Огромные, людскими руками построенные пустоты, огромные, набитые людьми безмолвия, они часто в самом сердце города в глухие ночные часы надевали своего рода зловещую маску, — именно это огромное всеобщее отрицание и дошло теперь наконец до сознания Брайдона, тем более что, как ни странно, почти невероятно, но вдруг оказалось, что ночь уже кончилась и, по-видимому, вся была им истрачена на его переживания. Он снова посмотрел на часы, увидел, что произошло с его чувством времени (он принимал часы за минуты, а не так, как бывает в иных трудных положениях — минуты за часы), и странный вид улицы зависел не от чего другого, как от слабых, печальных проблесков раннего рассвета, который, конечно, и держал еще все в плену. Оставшийся без ответа призыв Брайдона из собственного открытого окна был единственной ноткой жизни на всей улице, и ему теперь оставалось только прекратить пока всякие попытки, как дело совсем безнадежное. Но даже и в такой глубокой подавленности он оказался способен на действие, доказывавшее — во всяком случае, по теперешней его мерке — необычайную решимость: он вернулся на то самое место, где так еще недавно похолодел от страха, когда исчезла последняя капля сомнения в том, что в доме присутствует еще некто, кроме него самого. Для этого потребовалось усилие, чуть не доведшее его до обморока, но у него на то имелась своя причина, и она на минуту победила все. А еще предстояло пройти через все остальные комнаты — что будет с ним, если дверь, которая, как он видел, была закрыта, теперь вдруг окажется опять открытой? Он мог согласиться с мыслью, что эта закрытая дверь, по отношению к нему, была, в сущности, актом милосердия, дарованной ему возможностью спокойно сойти вниз, удалиться, покинуть дом и никогда больше его не осквернять. Это была логичная мысль, она работала; но чем все это могло реально обернуться для него, теперь, очевидно, целиком зависело от степени той снисходительности, которую его недавние действия или, вернее, его недавнее бездействие могло снискать у его незримого противника. Образ этого противника, поджидающего, пока он, Брайдон, двинется, никогда еще не был так непосредственно ощутим для его нервов, как сейчас, когда он только что поколебался на самой грани, за которой мог уже обрести полную уверенность. Ибо при всей своей решимости или, точнее, при всем своем страхе он действительно поколебался, он не осмелился увидеть. Риск был слишком велик, и страх слишком отчетлив — в эту минуту он принял особо зловещий характер.