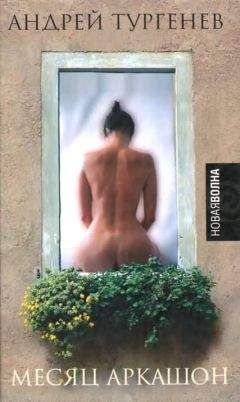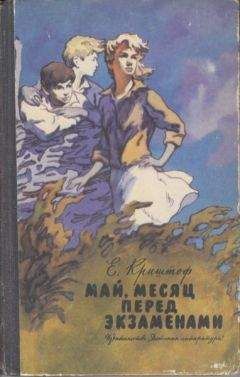Рэй Брэдбери - Что-то страшное грядёт
Дверь закрылась.
Джим, оставшись один, отворил окно и высунулся наружу под безоблачное ночное небо.
«Гроза, — мысленно спросил он, — ты на подходе?»
Да.
«Чувствую… там на западе… мчится сюда, здоровила!»
На дорожке внизу лежала тень громоотвода. Он вдохнул прохладный воздух, с силой выдохнул жаркое возбуждение.
«Почему, — спросил он себя, — почему бы мне не залезть на крышу, сорвать громоотвод и сбросить его вниз?»
И поглядеть, что из этого выйдет.
Вот именно.
Поглядеть, что из этого выйдет.
Глава десятая
Вскоре после полуночи.
Шаркающие шаги.
По пустынной улице шел продавец громоотводов, его кожаная сумка качалась почти пустая в бейсбольной руке-рукавице, и лицо его ничего не выражало. Он завернул за угол и остановился.
Легкие белые мотыльки мягко стучались в окно пустой лавки, заглядывая внутрь.
А там внутри, подобно погребальной ладье из стекла звездного цвета, на двух козлах, как на мели, покоилась глыба льда «Аляскинской Арктической Компании», достаточно большая, чтобы украшать своими переливами перстень великана.
И в этой глыбе была заточена самая прекрасная женщина в мире.
Улыбка продавца громоотводов исчезла.
В сонном холоде льда, словно пролежавшая так тысячу лет и сохранившая вечную юность, лежала эта женщина.
Она была светла, как приближающееся утро, свежа, как завтрашние цветы, прелестна, как всякая дева, которую мужчина, закрыв глаза, запечатлевает изумительной камеей на раковине своих век.
Продавец громоотводов вспомнил о необходимости дышать.
Однажды, давным-давно, странствуя среди мраморных скульптур Рима и Флоренции, он видел женщин вроде этой, только заточенных не в лед, а в камень. Однажды, бродя по залам Лувра, он наблюдал женщин вроде этой, орошенных летними красками и запечатленных в живописи. Однажды, мальчишкой, прокрадываясь в поисках свободного места через прохладные гроты за экраном кинотеатра, он глянул вверх и увидел там величаво парящее в призрачном свете женское лицо, какого никогда больше не доводилось видеть, таких размеров и такой красоты, сотворенной из млечной кости и лунной плоти, что он застыл на месте в своем одиночестве за экраном, завороженный движениями ее губ, порханием ее век, снежно-бледно-смертно мерцающим свечением ее щек.
И вот теперь один за другим в памяти возникали образы из минувших лет, и они проплывали в воздухе перед ним, обретая новое воплощение здесь, внутри этой глыбы.
Какого цвета ее волосы? Светлые, почти белые, но способные обрести любую окраску, если вызволить их из царства холода.
Какого она роста?
Ледяная призма вполне могла увеличить ее или уменьшить, смотря по тому, какое положение ты занимаешь перед витриной пустынной лавки, перед этим окном, перед мягко постукивающими в ночи, нежно гладящими стекло мотыльками.
Не так уж важно.
Потому что, самое главное, — продавца громоотводов бросило в дрожь — он знал одну совершенно поразительную вещь.
Если каким-то чудом там, внутри этого сапфира, веки ее поднимутся и она обратит на него свой взгляд — он наперед знал, какого цвета будут ее глаза.
Он знал, какого цвета будут ее глаза.
Если войти в эту ночную пустынную лавку…
Если протянуть вперед руку, тепло этой руки… что оно сделает?
Растопит лед.
Продавец громоотводов долго стоял на месте, зажмурив глаза.
Он выдохнул.
Выдох овеял зубы летним теплом.
Его рука коснулась двери магазина. Она распахнулась. Продавца обдал морозный, арктический воздух. Он вошел внутрь.
Дверь затворилась.
Белые снежинки-мотыльки стучались в окно.
Глава одиннадцатая
Минула полночь, городские часы пробили час, и два, и три в предутренней поре, и от звона колоколов сеялась пыль со старых игрушек на высоких чердаках, осыпалось серебро старинных зеркал на еще более высоких чердаках, рождались колокольные сновидения на всех кроватях, где спали дети.
И тут Вилл услышал.
Где-то глухо — чуфыканье машины, неспешное скольжение поезда-дракона.
Вилл сел на кровати.
Через дорогу, точно зеркальное отражение, Джим тоже сел.
Где-то за миллион миль так тихо, так мягко, печалясь про себя, играла каллиопа.
Вилл рывком высунулся из окна, и Джим сделал то же. Не говоря ни слова, они уставились вдаль над трепещущими бурунами древесных крон.
Их комнаты помещались на верхнем этаже, как это положено комнатам мальчишек. Из высоких окон они могли артиллерией глаз простреливать дали за библиотекой, за ратушей, за вокзалом, за хлевами и распаханными полями до самых прерий!
Там, на краю света, ласкали глаз лоснящиеся переливы железной дороги, размашисто сигналящей звездам лимонно-желтыми или вишневыми огнями семафоров.
Там, где обрывалась земля, выросло перышко пара, словно первое облако приближающейся грозы.
Вот показался сам поезд, звено за звеном — паровоз, тендер с углем и череда пронумерованных, крепко спящих, дремлющих, погруженных в сновидения вагонов, которые тянулись за разбрасывающей светлячков маслобойкой, за осеннесонным, протяжным рыком пылающей топки. Адские огни румянили притихшие холмы. Даже отсюда, издалека, можно было представить себе, как мужчины руками толщиной с бычий окорок мечут черный метеорный дождь угля в распахнутое чрево паровоза.
Паровоз!
Мальчики скрылись из виду, нырнули обратно в комнаты за биноклями.
— Паровоз!
— Гражданская война! С 1900 года не бывало таких драндулетов!
— Весь состав такой же древний!
— Флаги! Клетки! Это — Луна-Парк!
Они прислушались. Сперва Виллу показалось, что он слышит частый свист воздуха в собственных ноздрях. Но нет — это поезд, это едущая с ним каллиопа вздыхает и плачет.
— Похоже на церковную музыку!
— Черта с два. На кой Луна-Парку церковная музыка?
— Не чертыхайся, — прошипел Вилл.
— Черта с два. — Джим сердито высунулся в окно. — Я весь день сдерживался. Теперь все спят, так что черта с два!
Ветер нес музыку мимо их окон. Руки Вилла покрылись мурашками величиной с горошину.
— Но это точно церковная музыка. На другой лад.
— Ух, я замерз, пошли посмотрим, как они будут ставить шатры!
— В три часа ночи?
— В три часа ночи!
Джим исчез.
С минуту Вилл смотрел, как Джим скачет там у себя, как порхает в воздухе рубашка, надеваются штаны, а в ночи в это время пыхтел, перемалывая пар, этот траурный поезд, эти вагоны в черном уборе, вагоны цвета лакрицы, и закопченная каллиопа жалобно тарабанила три разных гимна, перемешанных до такой степени, что и не отличить один от другого.