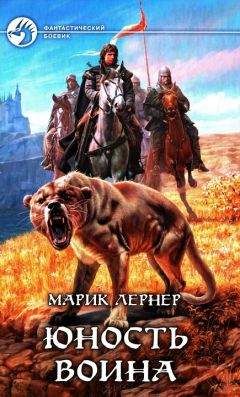Юрий Ищенко - Одинокий колдун
Одинокая старуха с проворной поскакивающей походкой, наряженная в черную деревенскую юбку и старую серую кофту крупной вязки из козлиной шерсти, с неопрятными распущенными волосами, седыми как дым от костра, бродила по скверу. Старуха бродила, не придерживаясь асфальтовых дорожек и раскисших тропок, вроде как опираясь на длинную палку с заостренным металлическим концом; что-то высматривала в траве и в опавшей листве, которую ей приходилось подолгу ворошить и разгребать.
Наравне с дочерью Ванда нынче сильно видоизменилась. В отличие и в полную противоположность Альбине, — дряхлая, разжиревшая было до полной беспомощности, мучительно и бесполезно жившая злобная развалина вдруг предстала омоложенной, энергичной, полной сил и эмоций. Она вовсе не шлялась без толку и не опиралась на клюку. Железным щупом на конце палки Ванда накалывала мелких прыгучих лягушек и больших жаб с желтыми брюшками, которые кишели в теплой мокрой траве, и складывала живых склизких земноводных в сумку, болтающуюся у нее на животе.
Также ее интересовали синие мелкие поганки с юбочками в оборочку на тоненьких сочных ножках. Ближе к вечеру Ванда устроилась на скамейке в глухом, прикрытом кустами углу сквера, высыпала из сумки на расстеленный кусок скатерти жаб, лягушек и грибы, среди этого скарба лениво плескал узорчатым хвостом маленький уж, ворочались с бока на бок крупные жуки. В сумке нашлась железная терка с ржавыми дырками, и старуха начала протирать добычу на терке: всех шевелящихся, пучивших глаза или хрустящих панцирями особей, пока они не превратилось в серо-красную кашицу. Из мешочков и конвертиков были извлечены семена и корешки, размолотая труха трав тоже замесилась в жижицу. Собрав полученную вонючую смесь в литровую банку, Ванда прихлопнула сосуд полиэтиленовой крышкой. Удовлетворенно крякнула и потянулась. Оглянулась на шорох гравия у ворот сквера: от железной ограды к ней шла насупленная дочь.
— А вот и милая моя пожаловала! — с наигранным воодушевлением, широко осклабя рот с двумя-тремя гнилыми зубами, крикнула Ванда и тут же переменила тон. — Ты, паскуда, где эту ночь шлялась? Чаво, блядские инстинкты не вовремя взыграли? Каждая минута на счету. Одной мне не справиться. Да все равно, сейчас же я тебя, тварь неблагодарную, своими руками придушу. Иди, иди сюда, блядь белоглазая. Руки переломаю, губы накрашенные порву, да глазки вырву, чтоб не блестели...
Дочь, не дойдя до скамьи нескольких метров, встала, молча смотрела на разорявшуюся мамашу. Она переоделась в юбку и кофту, оставив в квартире Светы сексапильные наряды.
— Ты во что меня втравила, гадина? — наконец спросила негромко, таким злым, свистящим голосом, что мамаша осеклась и насторожилась.
— А чего такого?
— Я же старею... Ты молодеешь, гадина древняя, уродина, а я старею. Уже больше тридцати лет мне дают. Волосы полезли, морщины на глазах закопошились, грудь отвисает, кожа посохла и пожелтела. А ты, бесстыжая, вон и похудела, и бегаешь, как заяц на полянке. Даже голос заново укрепился. Ты за мой счет свое время повернула. Тот обряд, заговоры позавчера ты же супротив меня делала! Думала, Альбинка тупая, не заметит и не догадается...
— Альбинка, кровинка моя, да ты заматерела просто-напросто. В тебе кровь взыграла, глянь, какая здоровая да спелая, сладенькая стала! — запричитала, все еще фальшиво улыбаясь, Ванда.
— Замолчи, тварь. Убью, — Альбина протянула к матери руки, странно удлинившиеся в вечернем тусклом свете, и та, завизжав, замахав растопыренными пятернями, стала отползать к краю скамьи, хотя дочь все еще не тронулась с места.
— Не трожь, не выйдет. Меня ухлопаешь и сама тут же сгниешь, шелудивой собакой обернешься... Ну, не лезь, скажу я. Клянусь, сама не знала, что так оно обернется. Или ты порченая, или им сила твоя нужна стала.
Ванда опасливо указала пальцем в землю под собой.
— Ты не психуй, терпи. Исход тебе, чего возжелаешь, все даст в назначенный срок. А обратного хода нет... Если щас уйдешь, свернешь, обе мы и недели не протянем. Нынче ночью самое важное мы должны сделать, а потом, — я нечистью, я Велесом, жизнью клянусь, — какой захочешь, такой и станешь...
— Эх, мамаша, наплевала ты на меня. Если твоему богу угодно станет, ты меня вместо свиньи взрежешь, глазом не моргнешь. Ну, смотри, ведь тем гадам, что наружу с кладбища рвутся, и им на все начхать. А если тебя саму сожрут? Ты хоть немного представляешь, что ждать можно от твоего Исхода?
— Знаю, все знаю. Клянусь, Альбиночка, — старуха в неподдельном ужасе вскочила и замахала руками, приметя, что дочь собирается идти обратно к воротам.
Альбина снова угрожающе замахнулась и зашипела.
— Не шипи на мамашу, — запальчиво крикнула Ванда. — Чего теперь ни болтай, а хода обратного нет! Нам здесь послужишь, тебе зачтется. Иначе тебя первую и достанем. Не скрыться и не отвертеться.
Перейдя на грозное «мы», старуха выпрямилась, сделалась гораздо выше ростом, и голос ее, загустев, стал неотличим от густого мужского баса.
— Сволочь, какая же сволочь, — горько заметила дочь. — Мне во сне этой ночью сестра показалась, Малгожатка. Предупредила, что наплевать тебе на меня, о себе лишь помнишь... Моей жизнью поступишься, чтобы малость перед нечистью выслужиться.
— Ты ей не верь, мне верь и служи. Она при жизни скурвилась, к ворогам переметнулась, силу потеряла. Если бы твои две сестры тут рядом стояли, нам гораздо легче было бы все совершить. Не верь ей, и мертвая напаскудить старается. Сейчас мы с тобою мазью натремся, хорошей свежей мазью, а после землю умаслим, споем, станцуем, и тогда сама увидишь, каких благ тебе будет даровано. Ну, пошли, пора... Обратного хода нет, нет, или в старухах дохни, или долг свой, веру свою, судьбу исполни. Пошли же!
Старуха подхватила сумку и заскакала прочь, к деревянной эстраде. Дочь побрела следом за ней, все еще кривясь от злости и сомнений.
Они разделись догола на свежевскопанной могиле, за кустами сирени и колючего шиповника со спелыми красными плодами. Ванда черпала склизкую, омерзительную на запах и на ощупь мазь из банки, делилась с дочкой и мазалась сама, старательно и истово, — темня руки, плечи, живот, бока, ляжки. Все покрылось густым и черным, как вакса, составом; обе женщины превратились в пахучие, черные болотные фигуры.
— Жжет. Огнем кожу печет, — сказала испуганно Альбина.
— Значит, хорошо. Что-то умеет твоя мамаша, — гордо откликнулась старшая ведьма.
И начала пританцовывать, сама же и подпевая-завывая. С ногами враскорячку, похлопывая себя по жирным, до пупа отвисшим грудям, плюясь и мелко, неразборчиво матерясь, она с хохотом прыгала по могиле, взрывая землю босыми ступнями. Она молилась и будила своих идолов. Альбине тоже захотелось танцевать, она было гикнула, дернулась; но кожу припекало все сильнее, боль огненными змеями заскользила вверх по телу, проникла в лоно, в рот, в глаза и уши, воспалила мозг. Альбина вскрикнула, как подстреленная птица, и упала в обмороке на сырую горячую землю.