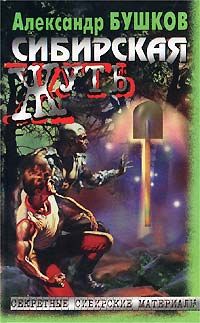Александр Бушков - Сибирская жуть-2
Раньше ведь как было? Говорили: убогому подать — Богу угодить. А нищебродов всяких по Сибире шаталося — тьмы, большие тьмы! Каторжане беглые, ино на заработки пробираются, ино с приисков с пустой сумой. Бредут пеши, Христовым именем питаются, а где и своруют, что плохо лежит. И вот у хозяек принято было: на ночь в окошке каку-никаку пищу выставлять — дело Божье, да чтоб не шибко баловали. А у нас от тракта в стороне, конечно, реже было, вот и содержали своего беглого. Дак он лет, однако, за двадцать на завалинке-то просидел. Мы, робятня, соберемся к нему — рассказы слушать про каторгу да про медные рудники…
Попал он, стало, следующим манером: в военной службе не стерпел и офицеру отпор дал. Его — в арестантские роты. А он с этапа возьми да сбеги. Поймали. Тут уж наказания добавили — в каторгу пошел. А беглому по уставу было положено: ковать в железа и помещать в отдельный кандальный барак. Мы спросим: как же это закавывали-то, ведь живо тело? А вот, говорит, видели — лошадей куют? Ногу в коленке к заду подгибают и кладут за спиной на наковальню. Да молотом, молотом. Только, слышь, в заклепку надо было бить, в раскаленную, а не в само железо, да.
Кандалы тоже велись нескольких сортов. Пока идут по этапу, то главные-то кольца соединялись цепями, у арестантов называлось «мелкий звон». А уж в каторге перекавывали в острожные: на ноге, стало, сам браслет, а от них кверху идут три прутка, соединенные петлями, и к кожаному ремню по чреслам прикреплено. В них работать было легче. Носили под портками, но все равно звон слышался — никак, говорил, к тому звону не мог привыкнуть. Дак это, мол, еще что! Кто по третьему разу убегал, тем и на руки украшения налагали да цепью их к тачке прикавывали. Так и спит, сердешный, с тачкой. Обычно, говорит, с краю нары ложились: сам наверху, а тачку-подругу на ночь под нару, да… И все одно народ сбегал! Не может человек с неволей смириться, нет. Пока силы есть — сопротивляется.
После второго побега наш Бритый лоб попал в медные рудники. В горе, объяснял, штольня — такой подземный ход метра два в ширину, чем дале, тем ниже да уже. Дают тебе санки, они тоже пуд весят, тянешь их в забой, кайлою руду насекаешь, погрузишь и назад — где согнувшись, где на карачках. А дневной урок был — десять таких ходок. И вот вся жизнь: вонючий барак-клоповник, утром с караулом до рудника под кандальное треньканье, день в темном подземелье — и назад. А про себя думает: «Все одно убегу! Но только, стало, надо все подготовить по путю, а то как раз угодишь спать с тачкой в обнимку, последнее дело…» Перво-наперво, как от железов освободиться? Допустим, заклепки камнями посбивать… Долго, но можно. Дак ведь только уж в тайге! А до нее-то надо быстренько добраться…
И тут ему подфартило: раз их на Пасху повели в соседнее село — в кусочки. Позволяли иногда: отберут группу, дадут караульных и — в село побираться. Дак вот в селе-то он разговорился с одним стариком бурятом. Пожалился: два раза-де бегал, да теперь вот кандалы тянут. И тот посочувствовал — пообещал: следующий раз придешь так же с сумой — дам тебе тайной бурятской мази, от нее кандалы сами спадают. Только, говорит, ты не отчаивайся, коли сразу не подействует, мажь и мажь, непременно будет результат. Под вид темного мыла, говорил, это зелье смотрелось. Начал мазать.
Сперва-то никакого действа. Но прошло какое-то время, и стал замечать: вроде, ноге посвободнее? Меж самым кольцом и лыткой раньше кое-как палец пролезал, а тут вроде… Мажет дале Ага, пошло дело, пришлось даже вторые кожаные подкандальники наложить, чтобы железо не шибко на ногах хлябало, в кровь не сбивало. И туто-ка он стал понемногу понимать: кандалам-то ничо не делается, а самые лапы вроде как съеживаются. Вот дак мазь-волшебница! И пришла весна, снова убег наш Бритый лоб. На этот раз хорошо убег. Как в песне поется: «Горная стража меня не догнала!» И прошел верст с тысячу, да…
А только бредет себе и чувствует: чтой-то ноги стали плохо слушаться. Оно и спервоначалу не шибко споро шлось, но он думал-де с непривычки, вот ужо разойдуся и побегу! Домой — как на крыльях… Ан дело-то все хужее и хужее. Пришлось посошок вырубить, опираться стал. А там и вовсе обезножел. Кабы дома-то сидеть, может, оно бы и ничо, а ты проволокися-ко тыщу верст, да. Не всякий здоровый выдюжит. А ино мазал слишком густо, кто ж ее знает. Обезножел человек. Далеко еще матушка Расея, не дойти. Надо подлечиться. И поселился в заброшенной зимовьюшке на краю нашей деревни. Думал: вот оклемаюсь да снова в путь. Только вышло иначе: совсем, считай, ноги отнялися. И пришлось горемычному век в чужой земле доживать, бобылем, из людской милости.
Его, бывало, спросят: дак стоило ль такой ценою свободу искать, судьбу пытать? А он ответит: «Зато я вольный человек. Вольный!..» А сам плачет. Дорого ему волюшка-то стала. Да, видно, нет ничего русскому человеку дороже.
Николай Волокитин. Страх
(рассказы)
ЭТОТ ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС
Мальчишкам было лет по восемь, по девять. Мне — не больше пяти. Увязавшись за ними на рыбалку куда-то аж к неведомым Дальним пескам, я вскоре утомился, захныкал, отстал. Мальчишки тут же скрылись в кустах, даже не окликнув меня, и я повернул назад.
Но легко сказать: повернул. Потыкавшись то в одну сторону, то в другую, я не обнаружил ни тропинки, ни каких бы то ни было следов на траве.
Я заорал:
— Эй, эй! Подождите! — и кинулся было снова вслед за мальчишками, но натолкнулся на такую плотную стену шиповника и малинника, что тут же взвился от десятка больнучих занозок.
— Пе-е-е-тька! Ле-е-е-нька! Гаврю-у-у-ха! — уже с беспомощным отчаянием позвал я.
Но только сорока, подергивая черным хвостом, ответила мне с ближней талины совсем непонятно:
— Чхав-чхав!
Обалдев от испуга, я стал бегать по полянке в поисках хоть каких-то признаков чего-то, помогшего мне отыскать направление к дому, но — увы! — вокруг были все те же незнакомые кусты, деревья, кочки, пеньки.
Я заревел. На весь лес. И, содрогаясь от нестерпимой жути, пронзившей во мне каждую жилку, запричитал:
— Боженька, миленький, родименький! Ну покажи мне дорогу! Ну покажи, мой хороший!
Почему я вспомнил в эти страшные для меня минуты именно про Бога, не знаю. И наша семья, и вся деревня были в то время не очень-то набожными, набожность к ним придет чуть-чуть позже, с войной, но вот вспомнил, и все. К кому мне было в моем положении еще обращаться за помощью? Не к энэлонавтам же, о которых я в то время никак не мог слышать.
Сколько я так ревел, не скажу, потому что не помню. Но вот как наступили неожиданное успокоение, неожиданная ясность в сознании, помню отлично. Сам не знаю почему, но я вдруг сел на кочку и стал ясно-ясно припоминать: когда мы шли с мальчишками по бездорожному мелколесью, то проходили вот этот пенек, перед пеньком была вон та елочка, а перед елочкой, кажется, вон та ложбинка, а перед ложбинкой — это уж точно! — вон тот желтеющий надломленный куст.