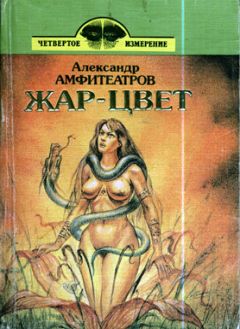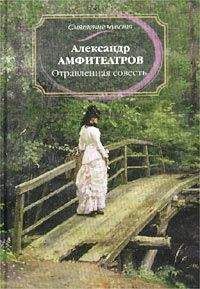Александр Амфитеатров - Жар-цвет
— То-то вот и есть, что не совсем… Тетушка ваша на пяти языках говорила и в светлые свои промежутки преумная была и преобразованная особа. А вот недавно в «Lancet» читал я отчет некоего доктора Моллока о болезни одного русского, которого он пользовал на острове Корфу…
Моллок! Таким образом смутившее меня всеведение Паклевецкого сразу объяснилось. Мне стало очень стыдно и досадно на себя за минутную слабость.
— Ara! Это напечатано? — сказал я. — Я знаю Моллока и случай, о котором он говорит. Пациент Моллока был мой друг.
— Вот видите, — торжествуя, захихикал Паклевецкий, — вы все со мной хитрите и осторожничаете, а между тем Моллок в отчете своем даже ссылку на вас делает, правда, только с инициалами, но достаточно прозрачную, чтобы узнать вас по приметам…
— Я не знал, что история Дебрянского получила огласку, и не считал себя вправе говорить о ней.
— А меня она интересовала уже задолго до вашего приезда. Откровенно сказать, я и записочки-то тетеньки вашей привез вам в специальном расчете, не толкнут ли они вас, по аналогии, разговориться и посвятить меня в подробности ваших корфиотских приключений.
— Выходит, доктор, что не я «все» с вами хитрю и осторожничаю, как вы только что упрекнули меня, а, на против, вы со мною хитрите и обходцы строите… Раз история оглашена, почему вы не спросили меня о ней прямо?
Паклевецкий виновато ухмыльнулся.
— Видите ли, есть вопросы любопытства, которые не ловко предлагать человеку, когда питаешь к нему чувство столь глубокого уважения, как я — к вашему сиятельству…
— Оставьте мое сиятельство в покое, а каким щекотливым вопросом вы опасались оскорбить меня в данном случае, признаюсь, я не совсем понимаю.
— Можно говорить?
— Пожалуйста!
— Слово гонору, что не обидитесь?
— Даю слово.
— Ну, хорошо… только чур! Слово дано! J'ai reçu le droit de l'insolence …[66] Так вот: когда вы были свидетелем и участником всех этих безумий и таинств, столпившихся вокруг семьи Вучичей, не приходило вам-в голову подозрение, что ваша собственная нервная система пошатнулась под их влиянием, и мысль ваша работала тогда не слишком-то нормально, и волевое движение сбилось не сколько с панталыка и пошло по кривой?
Я был изумлен. Так, что даже не рассердился на его, в самом деле, нахальство.
— Неужели Моллок, излагая казус Дебрянского, представил роль мою в таком виде, что вы могли вынести подобное заключение?
— О нет!.. — заторопился он. — Как можно!.. Меня только заинтересовала в болезни вашего покойного друга сторона открытой преемственности. Я, знаете ли, списался о нем с врачами, которые ранее пользовали его в Москве и услали поправиться на Корфу. Ведь удивительное дело оказывается, знаете ли: ваш Дебрянский заразился галлюцинацией этой Феклы или Анны — как бишь ее там звали? — от приятеля своего, некоего присяжного поверенного Петрова, буквально и точно в инфекционном порядке, как другие тиф или дифтерит схватывают…
— В доказательство, что эта инфекция обошла меня, и существовал я под нею в полном здравом уме и твердой памяти, мне остается предложить вам испытание: я расскажу вам все, что было с Дебрянским в сопровождении своих комментариев, как и что я в этой трагикомедии понимаю.
Мы проговорили до позднего вечера. Паклевецкий слушал с необыкновенным вниманием. Надо отдать ему справедливость: когда он серьезен и не строит шута, лицо его озаряется замечательно умным, но… все-таки, нет, не могу я этой антипатии внутренней перешагнуть: недобрым выражением. Из всех действующих лиц моей повести наибольше заняла его Лала.
— Вот кого, в особенности-то, запереть следовало бы! — произнес он, когда я кончил, — Лалицу эту вашу колдовскую!
— В особенности? — подчеркнул я.
— В особенности, — невозмутимо повторил он. — Первую.
— Ах, значит, усматриваете кандидатов и на последующие очереди?
— Да помилуйте: разве вы не видите? Не чувствуете? Эта Лала — настоящий очаг эпидемического психоза. Галлюцинации и иллюзии наваждений гнездятся в ней, как микробы и бациллы… Она дышит заразою нервных расстройств и потрясений. В какую здоровую среду ни бросьте подобную больную, она найдет достаточное число субъектов, которые отразят ее влияние прямым или обратным подражанием… Сами же говорите, что чуть было не поколебались — насчет смерча-то…
Он захохотал своим неприятным, режущим смехом. — Все-таки, доктор, — спросил я, — вы в награду за повесть признайтесь, что именно в истории ли этой, в поведении ли моем заставило вас сомневаться в моей психической нормальности, то есть, говоря низким слогом, считать меня маленько рехнувшимся?
Он пожал плечами.
— Решительно ничего… Кроме того разве, что, переживая подобную сверхъестественную передрягу, свидетелю ее маленько рехнуться даже более нормально, чем сохранить нервную систему в полной целости и мысль в совершенном здоровье… А у вас же еще наследственность обремененная… это вы лучше меня знаете, что же от вас скрывать?
— В этом отношении, доктор, я твердо уповаю на дедушку Дмитрия Ивановича…
— И совершенно напрасно! — перебил Паклевецкий с каким-то новым, злым воодушевлением. — Ваш дедушка и воспитатель Дмитрий Иванович Ладьин, действительно, выставлял себя позитивистом в науке, материалистом в философии, строгим логиком в жизни и педагогии, но знаете ли вы, что он тайком был беллетрист, сочинял повести, рассказы, стихи и печатал их под псевдонимами, которые тщательно скрывал даже от самых близких друзей и родных своих?
— Да, я слыхал это не раз, но никогда не читал ни одного из его произведений…
Паклевецкий усмехнулся.
— Вы найдете их несколько в журналах конца сороковых и начала пятидесятых годов. Мой отец служил вашему деду агентом по сношениям его с редакциями. Я знал от отца несколько псевдонимов Дмитрия Ивановича, но все позабыл. Помню только один: Софьин. Так подписывался он в память жены, которую страстно любил и потерял совсем молодою. Найдите какую-нибудь повестушку за этой подписью, прочитайте и тогда судите сами, велик ли корректив к фантастической наследственности представляет собою ваш, будто бы материалист, дед…
Слова Паклевецкого показались мне любопытными: я никогда не подозревал за суровым дедом Дмитрием подобной слабости и, по отъезде доктора, я долго ползал вдоль полок с «Московским телеграфом», «Московским наблюдателем», «Современником», «Библиотекою для чтения» и читал оглавления запыленных томов, пока не вcтретил в одном из них между стихами Бернета и полемическою статьею Николая Полевого заглавия: