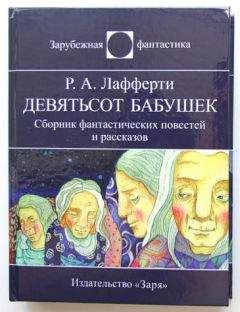Петр Катериничев - Корсар. Наваждение
– Барченко?
– Александр Васильевич Барченко? О, один из величайших умов, трагическая и загадочная личность двадцатого века. Носитель Великой Тайны, он, судя по всему, навсегда унес ее в мир иной. И руководитель одной из самых засекреченных лабораторий.
– Его арестовали позже других.
– Их всех – в тридцать восьмом. Причем Александр Васильевич предпринял попытку оставить хоть какую-то информацию для потомков. Ему даже удалось убедить отсрочить исполнение смертного приговора. Он получил карандаш и стопку бумаги, очень объемную стопку, и сутки писал обо всем, что знал.
– А что он знал?
– Об этом можно только догадываться. Его расстреляли на другой день после завершения исповеди, а рукопись упрятали так, что с тех пор ее почти никто не видел. Даже легенду сочинили: дескать, пропало все, когда в трагическом сорок первом немцы подошли к Москве и пришлось сжечь архивы НКВД.
– Но вы-то догадываетесь, что это была за тайна?
– Дмитрий, вы и сами знаете уже. Было несколько телепередач даже… О многом Барченко написал еще в своих дореволюционных романах: пещеры в Гималаях и на Русском Севере, подземные хранилища глубочайших тайн мировой цивилизации, замурованные отшельники…
– Понятно. Фантастика. Хотя я что-то читал…
– Он «что-то читал». Вот, послушайте, это из письма Александра Васильевича Барченко некоему бурятскому этнографу, сохранившегося каким-то чудом в архивах в Улан-Удэ.
Екатерина Владиславовна взяла с этажерки еще одну папку, открыла:
– «Это убеждение мое нашло себе подтверждение, когда я встретился с русскими, тайно хранившими в Костромской губернии Традицию. Эти люди значительно старше меня по возрасту и, насколько я могу оценить, более меня компетентные в самой Универсальной науке и в оценке современного международного положения. Выйдя из костромских лесов в форме простых юродивых, якобы безвредных помешанных, они проникли в Москву и отыскали меня.
Посланный от этих людей под видом сумасшедшего произносил на площадях проповеди, привлекал внимание людей странным костюмом и идеограммами, которые он с собой носил. Этого посланного – крестьянина Михаила Круглова – несколько раз арестовывали, сажали в ГПУ, в сумасшедшие дома. Наконец, отпустили его на волю и больше не преследуют. В конце концов с его идеограммами случайно встретился в Москве и я, который мог читать и понимать их значение.
Таким образом, установилась связь моя с русскими, владеющими русской ветвью Традиции. Когда я, опираясь лишь на общий совет одного южного монгола, решился самостоятельно открыть перед наиболее глубокими идейными и бескорыстными государственными деятелями большевизма и прежде всего Дзержинским тайну, то при первой же моей попытке в этом направлении меня поддержали совершенно неизвестные мне до того времени хранители древнейшей русской ветви Традиции. Они постепенно углубляли мои знания, расширяли мой кругозор. А в нынешнем году формально приняли меня в свою среду».[60]
Ну и как вам это, Корсар? Вся наша жизнь – в чем-то фантастика. Разве вы не почувствовали это на себе?
– Возможно. А кто такой Борин? Раньше вы даже не упоминали о нем, Екатерина Васильевна…
– Борин… Думаю, это был такой же псевдоним, как у Волина. Саша Борин… Я… любила его. Таким, каким он был, – бесшабашным, неверным, отчаянным, алчным… Всяким.
– Борин, Волин? Что сталось с ними?
– Считалось, что тоже – расстреляны. Но я думаю… они просто исчезли. – Старушка долго испытующе смотрела на Корсара, потом произнесла тихо: – Профессор Волин… А вы никогда не задумывались, Митя, что булгаковский Воланд – не просто плод писательского воображения… что он списан – с реального лица?
– Даже так…
– А – никак. Когда я выпью, я – такая дурочка… Хотя… давно я и не выпивала, и не утомлялась так. Наверное – от встречи… с прошлым? Или…
– Чему быть, того уж не воротишь…
– Запомнили? Вот и славно. – Ланевская всплеснула руками, вышла, вернулась, принесла коричневый кожаный реглан: – Это – тоже вам, Дима. Для мотоцикла – в самый раз.
Посмотрела на Корсара, чуть склонив голову, вздохнула про себя:
– Как раз такие и носили авиаторы в Первую Великую Отечественную войну. О, он вам впору. Как я и предполагала.
– А где… Тот мужчина, что…
– Он уехал. Далеко и надолго. Помните песню? «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…»
– Это было так давно?
– Давно. Хотя… Чем сейчас можно отмерить – «давно», «недавно»? Кто и на какой шкале это сможет сделать? – Старушка бросила взгляд на Корсара, произнесла тихо: – Кажется, я вас уже утомила своим философствующим претенциозным нытьем.
– Вовсе нет. Вы прожили долгую жизнь, вы продолжаете жить, но у меня создалось впечатление, что вы были счастливы… лишь тогда, в двадцатых…
– Двадцатые. Начало нового века.
– Разве начало?
– Ну конечно. Новый век всегда начинается – по крайней мере, для России, а значит, и для мира – только тогда, когда исчезает – войной, смутой, прорывом – инерция века прошлого, ушедшего. Ведь даже Петр Великий – это инерция преобразований его отца, действительно великого Алексея Тишайшего. А век «золотой», женский, восемнадцатый, реально начался воцарением Екатерины. Так же и с двадцатом веком – двадцатые годы – после Первой мировой, великого исхода Гражданской, буйств и бесчинств ее – действительно годы, полные надежд, безграничной свободы, фантазии, полета – во всем!
– Потом это прошло…
– Ах, Дмитрий… Потом – все проходит. И – что происходит с нами, когда проходит, кончается – то или иное время… Когда жизнь – проходит… Что происходит с миром, когда проходим мы?
– И все-таки – вы были счастливы!
– Была? Счастлива? О да. Абсолютно. Я и теперь счастлива. Вот только… Переносить это счастье мне порой… невмоготу.
– Екатерина Владиславовна…
– Все, Дмитрий Петрович, рандеву окончено. Идите, Митя. Вам есть куда идти, значит – вы не только счастливы, но и очень молоды. Настолько, что еще не знаете об этом. И – не вздумайте меня жалеть.
Ланевская улыбнулась мимолетно, словно невесомое облачко вдруг появилось в знойном летнем небе и – исчезло:
– Жизнь дается многим, а старость – только избранным.
Глава 36
Где-то за Москвой уже вставало солнце, а над столицей пока всего лишь – брезжил рассвет: серый, прозрачный, и неведомо еще было, чем он станет и во что превратится – в день, затянутый тучами, теплый и душный, в день яркий и залитый синевой высокого неба или – в день тягостный и мутный, наполненный выхлопами автомобилей и смогом недальних торфяников.