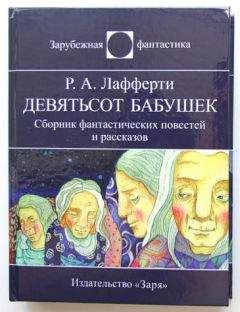Петр Катериничев - Корсар. Наваждение
– Или, как теперь любят выражаться психологи, психиатры и психопаты – коллективного бессознательного.
Ланевская придвинула альбом ближе к Корсару:
– А вот этот я вам, кажется, в прошлый раз не показывала… Нет? Хотя все здесь интересно для меня одной… Личное. Мои молодые люди, подруги…
– Это – вы, а это… Ольга?.. – Лицо Корсара было крайне озадаченным; несомненно, на фото двадцать второго или двадцать третьего года была Ольга Белова – специальный корреспондент The Daily Majestic в современной России в «надцатые» годы двадцать первого века! И он бы очень хотел услышать, что это – ее бабушка, тетя, что они с Ольгой нынешней – весьма похожи, да что похожи – на одно лицо… Но услышал то, что сказала Ланевская:
– Ну конечно, это наша красавица и умница – Оленька Белова…
– Но она же не…
– Ну конечно же! Тогда ее фамилия была не Белова! – Старушка хохотнула заговорщицки. – Кто бы взял в засекреченную лабораторию выпускницу Смольного института княжну Ольгу Бельскую? Но тогда, в двадцатых, сменить фамилию – только заявление подай, вернее, в любой газетенке пропечатай, скажем в Тамбове или Кологриве, – и все. Иди получай новехонький советский паспорт.
– А сколько ей тогда было?..
– Как и мне – немного за двадцать. – Екатерина Владиславовна понизила голос, перекинула несколько страниц альбома: – Смотрите…
Там стояла – совсем юная Ланевская, в платье ученицы женской гимназии; рядом – Ольга Бельская, совсем не изменившаяся, и по сторонам – двое молодых людей…
Корсар закрыл глаза, тряхнул головой: прямо на него смотрел… он сам. В мундире корнета гвардейской кавалерии, на летном поле где-то под Петербургом: позади застыл аэроплан, а принадлежность обоих молодых людей к профессии авиатора подтверждалась обязательными и необходимыми тогда аксессуарами: небрежно накинутой кожаной курткой, крагами, шлемом и очками, пусть и не надетыми, а лежащими на высоком табурете рядом. И почему-то Корсару подумалось, что авиаторы были тогда для обывателей чем-то вроде космонавтов для граждан начала шестидесятых.
– Нет, это не вы, Дима… – тихо, словно увещевая, проговорила Ланевская. – Это Митя Корсаков. Возможно, ваш пращур по какой-то из линий – уж больно вы похожи… Возможно и – нет.
– Но Ольга Белова – это она?
– Княжна Бельская? Она самая… И как видите – выглядит как раз немного за двадцать. Впрочем, как все последующие годы, что я ее знала.
– И долго вы ее знали?
– До тридцать шестого. Потом мне пришло письмо… от одного человека. Где он настоятельно советовал переехать в провинцию. На должность библиотекаря. Чего я не сделала.
– Что за человек?
– Не мой любовник. Да и какая теперь разница?
– Скажите, Екатерина Владиславовна, а сколько лет должно быть теперь Ольге Бельской?
– Понятия не имею, – нарочито равнодушно произнесла старушка.
– Но приблизительно…
– Приблизительно – я составила для себя какое-то мнение, но оно – может быть весьма и весьма обманчивым.
– И все-таки?
– Ольга, когда мы общались, показалась мне весьма… артистичной и впечатлительной натурой, с живым, подвижным умом, склонным к достоверному сочинительству. Думаю, если бы она стала писать романы, то затмила бы и Жорж Санд, и Франсуазу Саган…
– Почему вы так решили?
– Она часто рассказывала… о бедной царице Марине, я имею в виду Марину Мнишек… О ее последних днях и казни – и ее, и десятилетнего наследника… О молодой Екатерине Великой, еще плохо тогда изъяснявшейся по-русски, и ее жизни в замужестве… О княгине Дашковой и ее вполне греческих склонностях – как у поэтессы Сафо…
– А о самой Сафо – не рассказывала?
– Дима, вы спросили это с каким-то совсем не свойственным вам ожесточением… Почему?
– Я познакомился с Ольгой Беловой.
– Давно?
– Трудно сказать. Суток трех еще не прошло, но произошло столько всякого…
– Тогда – это действительно она. Порой там, где Оленька появлялась, события сгущались до плотности неимоверной…
– Может, она Валькирия?
– Да бросьте вы повторять эти старогерманские сказки! Просто…
– Просто – что?
Старушка потупилась:
– Если честно, я не знаю! Понимаете, Корсар… я, кажется, говорила… я ведь тоже… скрываю свой возраст. На сколько я выгляжу?
– Лет на шестьдесят пять.
– Вы мне льстите. На семьдесят, не меньше. По паспорту мне семьдесят четыре. А на самом деле…
– Неужели семьдесят пять?
– Я родилась в 1881 году, в Царском Селе, в год убийства Александра II Освободителя и вступления на престол Российский Александра III. Я вижу, вы не особенно и удивлены.
Мысль была мгновенной, как вспышка молнии. Корсар вынул мобильный телефон, вывел на дисплей ноутбука снимок сидящего за столом Волина, повернул экран дисплея к Остальцевой:
– Екатерина Владиславовна, а этого мужчину вы знаете?
– О господи. – Старушка невольно перекрестилась.
– Кто это?
– Вы действительно хотите это знать?
– А что еще я могу потерять?
– Душу.
– Мне про это вчера уже говорили. Так кто это? Или – что?
– Александр Александрович Волин. Профессор Волин… Он же – товарищ министра Временного правительства Волков… Он же…
Ланевская посмотрела на Корсара, улыбнулась принужденно…
– «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» Кому это сейчас… А откуда у вас эта фотография, Митя?
– В сети Интернет выловил…
– Вы лукавите… Профессор Волин – самая охраняемая гостайна двадцатых… Его нельзя было фотографировать. Да. Самая охраняемая тайна Советской России в двадцатых годах и СССР – в последующие… А до этого – бог знает сколько поколений тайных служб и обществ хранили эту тайну.
Побледневшее лицо Ланевской сразу как-то помрачнело и постарело на глазах; потом она справилась с собой, налила спирта в стакан до половины, выпила в три глотка, переждала немного, щеки ее порозовели.
– Так кто он, этот Волин?
Старушка покачала головой, произнесла, словно пребывая в прострации, с какой-то обреченностью:
– «Кто он»… Демон… Ангел… Про это – только один Бог знает. Один только Бог.
Глава 35
Какое-то время Корсар довольно бездумно, как ему казалось, листал альбомы с фотографиями, чтобы дать время Ланевской справиться с нахлынувшими чувствами. Хотя «бездумно» – нет, неправда. Слишком уж фотографии были значимые. За них Екатерину Владиславовну могли расстрелять в годы оны не три – триста тридцать три раза! И конечно, неизвестно, чья «конкретная, окончательная бумага» защищала женщину, однако она как жила, так и продолжала жить в Москве весь период уплотнений, выселений, переделок, перестроек, реформ, демократизации, бандитского беспредела – все в том же доме и той же просторной, четырехкомнатной квартире. И не задели ее уютное и старомодное жилище ни классовая ненависть пролетариев, ни зависть соседей или сослуживцев, ни ярость бандитов к одиноким старикам, ни деловые поползновения новых русских. Да. «Окончательная бумага. Броня».