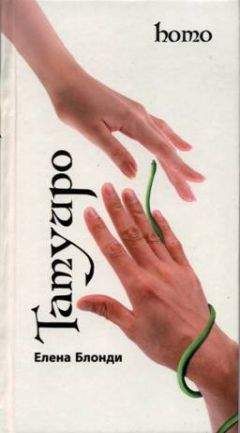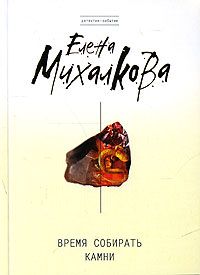Елена Блонди - Татуиро (Daemones)
— Убьется ветер, — сказал Вася, — к закату.
— Точно? — Наташа прищурилась на него с напускной суровостью, — ты, метеоролог, не соврешь, так пойдем, а?
— Только смотреть. Обещаешь? — Вася мрачно глянул на веселую сестру.
— Обещаю, нянько, обещаю! Но Витя — фотограф, ему надо показать, понимаешь?
Витька пил чай и не вмешивался, пусть уж само идет. Василий ему понравился и доверия внушал больше, чем девушка.
— Только идти далеко. С полудня пойдем. Фотик свой сготовьте, вдруг дождь кончится, — распорядился мальчик и встал, вытирая ладошкой рот:
— Спасибо, в общем. Я на маяк. Наташ?
— Иди уже, я сейчас.
Когда Вася ушел, посидели молча. Наташа тихонько напевала, похоже вся уже в послеобеденной прогулке. На вопрос о том, куда, махнула рукой, мол, сюрприз, после. И вдруг поднялась и быстро ушла, прихватив пустой чайник.
… Потом Витька долго бездельничал, валяясь на покрывале, собирал мысли, вспоминая сон. Он был у самого входа. Уже у входа! Меняются ли эти сны от того, что с ним наяву происходит? И надо ли тогда наяву что-то менять, или делать? От незавершенности ночного ныло под ложечкой. Махнуть бы рукой на мысли о снах, плыть по течению дня, вслед за солнцем, прорезающим тучи…
Слушал ветер, а тот насмехался, гудя, царапал окно горстями песка, — с берега принес, не поленился. Васька сказал — убьется? Такой сильный, уверенный и вдруг — стихнет, уползет в расщелины выстуженных камней. Витька попытался представить, но голова кружилась, будто от порывов ветра полетело все рваными бумажками и сил нет ухватить, а пальцев — собрать. Зевнув, прикусил язык и повернулся на бок, просунув руку под подушку.
Запах степной травы покачивался под потолком, трогал ноздри.
Летом бы сюда. На каленый песок, в арбузную свежую воду. Поодаль торчит из воды большая каменная пятка в скользких водорослях. Бросить на камень сетку и нырять, перебирая руками по острым краям ракушек. Отколупывать, жалея, — снова ножа не взял, а потом плыть к берегу, подтягивая вихляющуюся по ноге колючую тяжесть сетки. За скалами, под обрывом, чернеет плешка от постоянного кострища. В кустах и лист железный припрятан, ржавый, его кладут на камни очага и сидят вокруг, слушая, как шипит, вытекая, сок из умирающих мидий.
Наташа-степнячка рядом, пыльные пальцы ног зарыты в белесый от жары песок. Поддевая сухой веточкой раскрытую ракушку, дует, чтоб не обжечь руки. Потом желтый комочек мидии — на язык… Она без лифчика, будто так и надо, и хочется ее, на жаре, потную, с белой полоской кожи по лопаткам. А нельзя — Васька шлепает по воде за спинами, глядит, щурясь, и от взгляда зябко позвонкам.
А она опускает лицо, выгоревшие каштановые волосы свешиваются до самого песка и прикрывают круглые, чуть висящие груди, пряди ерзают по соскам… После берет его за руку и показывает на обрыв. Там, выше голов, в корявой широкой впадине от старого оползня — черная дыра пещеры.
У Витьки от черноты пересыхает в горле, глаза приклеены к пустоте, куда надо пойти. И только запах чабреца, трогая воздушными пальцами, держит и держит на месте.
… В летнюю жаркую тишину камушком по стеклу вошел стук. Сначала тихий, потом погромче…
Он со всхлипом вздохнул и вскинулся, разлепляя глаза. Виски кололо. Заснул все-таки!
— Эй, фотограф, живой?
Руки затекли и нога, как чужая. Выдергивают из сна, как голого в толпу.
Голос Васи за дверью звучал тихо, но внятно. А ветер и, правда, убился.
…Сел, глядя в жаркий круг обогревателя. Пламенела спираль. Весь воздух съел прибор, вот жара и наснилась.
— Спишь, эй?
Он прокашлялся:
— Сейчас… встану.
— Мы у дядь Коли пока.
Желтый, уже не утренний свет медленно проглотил звуки шагов…
Витька сжал потные кулаки. Что-то пришло и бродило вокруг, наваливаясь. Встряхнул головой и сморщился от укола в висок. Как-то совсем плохо внутри. Может, от того, что никак не приснится главный сон? Джунгли кончились, застрял на входе в пещеру. Напряжение внутри рвалось, как чересчур натянутые проволоки, с коротким злым свистом и царапали кожу острые обрывки.
Ничего не хотелось. Не моглось. Будто подвесили и забыли, оставили качаться и ушли. Хорошо, не за шею, подумал, усмехнувшись.
…Встал и, припадая на затекшую ногу, пошел выдернуть из розетки старенький шнур.
Подсолнух обогревателя серел, будто обижаясь, — ему бы еще отвернуться…
В ванной стоял, нагнувшись, набирал горстями холодную воду, поднося к лицу. Так не пойдет! Пусть сон остается во сне!
И полегчало. Слушая за окном голоса и шаги, смех, глотнул стоя остывшего чаю из Наташиной чашки. Вспомнил бабушкино — «отхлебну из твоей, все мысли-то и узнаю». Честно постоял, слушая голову — есть ли там новые мысли, девичьи? Нового не услышал, зато увидел вдруг, как форточка блестит отколотым краешком стекла и светятся неотмытые полоски у самого крашеного дерева, а солнце расчерчивает беленую стену. Взял камеру и, уже крепче ступая, снял то, что пришло в него с послеполуденным светом, и устроилось внутри, сворачиваясь змеей. Потому что форточка в желтом свете — и есть его состояние нынешнее. Подумал о звонкой зиме в Москве, о том, как слоился мир на пласты невидимого, из которых все состоит. Входит и входит в его голову новое. Будет ли этому конец? А есть еще такие, как он? Что следят за собой, как за чужой планетой, удивляясь непонятному. И если есть, у всех ли на коже — змеи?
— Вить?
Ухватился за Наташин голос, реальный, как ее тугие волосы и серые глаза. Вон и у Васьки такие же, серые с зеленью. А еще у обоих яркие губы, не из зимы, летние, цветком. Надо их снять вместе.
Открыл дверь в желтый свет над выметенным ветром двориком. И замер, будто глядя другой сон. Плоские плиты известняка светились детской старостью, ведь жить им еще и жить, истончаясь, тысячи лет. Казалось, ступи и взорвется камень от наполненности временем. Может быть, эти плиты лежали в крепостной стене греческого города и выбоины от каменных ядер и дротиков заполнялись вечерними тенями. А потом их же укладывали под ноги, обутые в сандалии или мягкие кожаные сапоги. Потом, находя в старой земле, ставили в изгородь обычного огорода, и они держались без всякой замазки, давя собственной тяжестью на другие, а в просветы виднелось близкое море и небесная голубизна. …Некоторые из них разорвало прямым попаданием снаряда последней войны, смешавшей эту землю с небом. Те, что уцелели — лежат теперь тут, снова поставляя спины сотням шагов…
А за плитами и высокой стеной — белая тугая труба маяка. И меж таких же белых стен высокой ограды двора — синее море, веселым ядом, налитым в ладонь. И светлое небо, набитое яркой ватой облаков — везде.