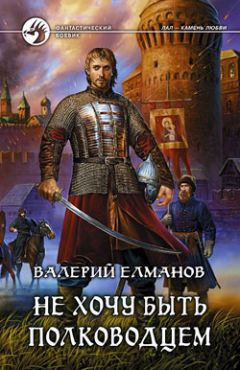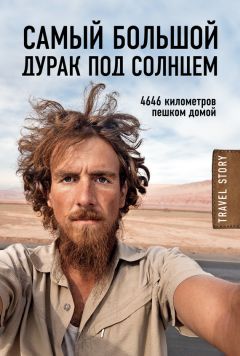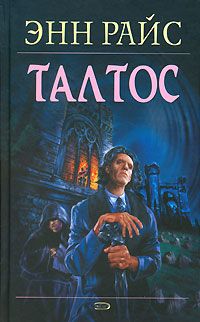Энн Райс - Талтос
— Да, спасибо, Джейкоб, — ответил Эш.
Он остановился. Снег все падал на его темное пальто. Он чувствовал, как снежинки тают в волосах. Эш сунул руку в карман, нащупывая там маленькую игрушку, лошадку-качалку… Да, она была на месте.
— Это для твоего сына, Джейкоб, — сказал он. — Я ему обещал.
— Мистер Эш, стоило ли вспоминать об этом в такую-то ночь?
— Ерунда, Джейкоб. Могу поспорить, твой сын отлично все помнит.
Маленькая деревянная игрушка была слишком уж незначительной. Теперь Эш пожалел, что не выбрал подарок получше.
Эш шел слишком быстро, и шофер не мог за ним поспевать. Впрочем, он был слишком высок для того, чтобы над ним держали зонт. Это был всего лишь жест, картинка: человек почти бежал рядом с зонтом в руке, на случай, если Эш захочет взять этот зонт, чего никогда не случалось.
Он поднялся в теплое, тесное и всегда пугающее внутреннее пространство самолета.
— Я подготовила вашу любимую музыку, мистер Эш.
Эш знал эту молодую женщину, но не мог припомнить ее имя. Она всегда была одним из его лучших ночных секретарей. И сопровождала его во время последней поездки в Бразилию. Он хотел запомнить ее имя. Просто стыд, что оно не сорвалось мгновенно с языка.
— Иви, кажется? — с улыбкой спросил он, слегка сдвинув при этом брови, как бы заранее прося прощения за возможную ошибку.
— Нет, сэр, Лесли, — ответила девушка, мгновенно его прощая.
Нет сомнений, что будь она куклой, то непременно сделанной из неглазированного бисквитного фарфора. На ее личико наложили бы грунтовку нежно-розового цвета, и розы расцвели бы на ее щеках и губах, а глаза сделали бы подчеркнуто маленькими, темными, глубоко посаженными. Девушка застенчиво ждала.
Эш устроился на своем месте, в огромном, длиннее всех остальных, кожаном кресле, изготовленном специально для него, и Лесли вложила ему в руку красиво отпечатанную музыкальную программу.
Это был обычный его выбор: Бетховен, Брамс, Шостакович. И еще сочинение, о котором он просил: «Реквием» Верди. Но он не мог слушать его сейчас. Если он погрузится в эти мрачные аккорды и голоса, на него нахлынут воспоминания.
Эш откинул назад голову, не обращая внимания на зимнее представление за маленьким иллюминатором.
«Спи, дурак», — приказал он себе, не шевеля губами.
Но он знал, что заснуть не сможет. Будет думать о Сэмюэле и о том, что тот сказал, думать снова и снова, до самой их встречи. Эш будет вспоминать запахи дома Таламаски и то, как тамошние ученые были похожи на священников, и человеческую руку с зажатым в ней гусиным пером, выводившую крупные затейливые буквы: «Аноним. Легенды затерянной земли. Стоунхендж».
— Хотите побыть в тишине, сэр? — спросила юная Лесли.
— Нет. Шостакович, Пятая симфония. Она заставит меня плакать, но вы не должны обращать на это внимание. И еще я голоден. Принесите сыра и молока.
— Да, сэр, все уже готово.
Девушка начала перечислять названия сыров — изумительные сорта, заказанные для него во Франции, в Италии и бог знает где еще. Эш кивнул, сделав выбор, и замер, ожидая, когда на него обрушится музыка, которая заставит его забыть о снеге за бортом и о том, что вскоре он окажется над огромным океаном и направится к Англии, к той самой равнине, к Доннелейту и к глубочайшей печали.
Глава 2
После самого первого дня Роуан больше не говорила. Она проводила дни на улице, под дубом, в белом плетеном кресле, положив ноги на подушку, а иногда просто лежала на траве. Она смотрела в небо, водя взглядом, как будто там неслись процессии облаков, а не сияла чистая весенняя голубизна, по которой лишь изредка пролетали едва заметные белые клочки.
Роуан смотрела на стену, или на цветы, или на тисы, но никогда на землю.
Возможно, она забыла о двойной могиле, что находилась прямо под ее ногами. Могила заросла травой, быстро и густо, как это всегда бывает весной в Луизиане. Этому помогали и частые изобильные дожди, а иногда и сияющее солнце с дождиком одновременно.
Роуан ела — съедала примерно от четверти до половины того, что ей давали. По крайней мере, так говорил Майкл. Она не выглядела голодной, но все еще оставалась бледной, а руки, когда она ими шевелила, обычно дрожали.
Вся родня приходила повидать ее. Родственники оставались на другой стороне лужайки, держась подальше, как будто могли причинить Роуан боль. Они произносили приветствия, спрашивали о ее здоровье, уверяли, что она прекрасно выглядит, — и это было правдой. А потом пятились назад и уходили.
Мона наблюдала за всем этим.
По ночам Роуан спала, говорил Майкл, спала так, словно была измучена, словно весь день тяжело трудилась. Купалась она в одиночестве, хотя это пугало Майкла. Но она всегда запиралась в ванной комнате, а если он пытался остаться внутри вместе с ней, она садилась на стул и смотрела в сторону, ничего не делая. Ему приходилось уступать. И тут же он слышал, как щелкает замок.
Роуан слушала, что говорили люди, по крайней мере сначала. И время от времени, когда Майкл умолял ее сказать хоть что-то, она тепло хлопала его по руке, как будто успокаивала или просила быть терпеливым. Грустно было видеть все это.
Майкл был единственным, кого она признавала, к кому прикасалась, хотя частенько делала этот легкий жест все с тем же отстраненным выражением лица и даже не меняя направления взгляда серых глаз.
Волосы у нее полностью отросли. Они даже слегка золотились от долгого сидения на солнце. Пока Роуан лежала в коме, волосы у нее были цвета мокрого дерева, выброшенного на заболоченный речной берег после длительного пребывания в воде. Теперь они выглядели живыми, хотя, если память не подводила Мону, волосы сами по себе мертвы. Мертвы, когда вы их расчесываете, завиваете или делаете с ними что-то еще.
По утрам Роуан поднималась, когда ей того хотелось. Она обычно медленно спускалась по лестнице, левой рукой придерживаясь за перила, а в правой держа трость, на которую опиралась, ставя ее на каждую ступеньку. Похоже, ее не интересовало, помогает ли ей Майкл. И если Мона брала ее за руку, это тоже ничего не меняло.
Время от времени, перед тем как спуститься вниз, Роуан останавливалась перед туалетным столиком и подкрашивала губы.
Мона всегда это замечала. Иной раз Мона ожидала Роуан в коридоре перед спальней и видела, как Роуан это делает. Весьма примечательно.
Майкл тоже всегда обращал на это внимание. Роуан носила только ночные сорочки или халаты — в зависимости от погоды. Покупала их тетя Беа, а Майкл сразу стирал, потому что, насколько он помнил, Роуан надевала новую одежду только после стирки. Потом Майкл раскладывал вещи для Роуан на кровати.
Нет, полагала Мона, это вовсе не кататонический ступор. Да и доктора с ней соглашались, хотя и не могли сказать, что с Роуан не так. В тот единственный раз, когда один из врачей — идиот, как обозвал его Майкл, — попытался воткнуть в ее руку иглу, Роуан просто мягко отвела руку и прикрыла ее другой рукой. А Майкл пришел в ярость. Роуан даже не посмотрела на того парня и не сказала ни слова.
— Хотелось бы мне быть здесь в тот момент, — сказала Мона.
Конечно, Мона и так знала, что Майкл говорит правду. Пусть себе доктора рассуждают и тычут иглами в других людей. Может, когда они вернутся в свой госпиталь, они начнут втыкать иголки в куклу, изображающую Роуан, — эдакая вуду-акупунктура. Мона ничуть бы этому не удивилась.
Но что чувствовала Роуан? Что она помнила? Никто ни в чем не был уверен. Только со слов Майкла они знали, что она вышла из комы в полном сознании, что разговаривала с ним несколько часов, что знала обо всем случившемся, что в коме она все слышала и понимала. Что-то ужасное произошло в день ее пробуждения… еще одно… И двое похороненных под дубом.
— Я просто не должен был ей это позволять, — в сотый уже раз сказал Майкл Моне. — Тот запах, что шел из ямы, и вид того, что там осталось… Мне нужно было позаботиться об этом самому.
«Но как выглядел тот, другой, и кто отнес его вниз? Расскажи мне обо всем, что говорила Роуан…» — снова и снова просила Мона.
— Я смыл землю с ее рук, — сказал Майкл Эрону и Моне, — потому что она не сводила с них глаз. Ведь врач не станет терпеть грязь на руках. Подумать только, сколько раз хирургу приходится мыть руки… Она спросила меня, как я себя чувствую, она хотела… — На этом месте Майкл задыхался оба раза, когда рассказывал всю историю. — Она хотела пощупать мой пульс. Она беспокоилась обо мне!
«Ох, если бы я увидела, что они там похоронили! — сетовала Мона. — Ох, если бы она поговорила со мной!»
Это было самым странным из всего: в тринадцать лет стать богатой, потенциальной наследницей, иметь своего водителя, и машину (по-простому говоря, сверкающий черный лимузин невероятной длины, с разными плеерами, цветным телевизором и множеством емкостей для льда и диетической колы), и деньги в кошельке в любое время, причем двадцатидолларовые купюры, не мельче, и горы новой одежды, и множество людей, занимающихся ремонтом старых домов на Сент-Чарльз-авеню и Амелия-стрит, бегающих за ней с лоскутами натурального шелка и кусками обоев ручной росписи, чтобы она выбрала образцы.