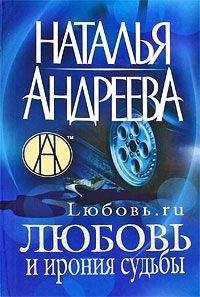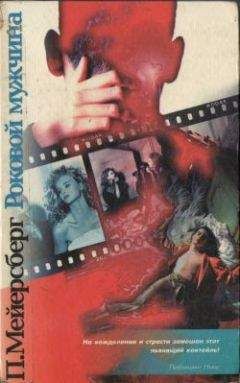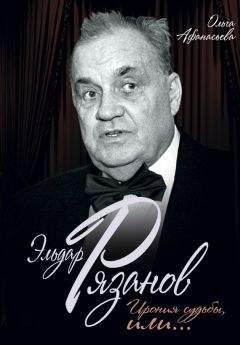Ф. Коттэм - Дом потерянных душ
— Это произошло в апреле тысяча девятьсот двенадцатого, — напомнил Ласкаль Ситону и Мейсону. — Мне было семнадцать, когда произошла трагедия с «Титаником». И моя вера едва не погибла вместе с затонувшим кораблем.
Но в те дни он был молод. А молодости свойствен энтузиазм. И энтузиазм переродил его веру в нечто более возвышенное, чем мир наживы и удовольствий, чем даже имперские амбиции враждующих стран. Именно поэтому война в Европе не могла помешать его размышлениям, направленным на поиск сокрытой в Евангелии истины. Не могла омрачить ею радость от знакомства с поэзией собрата по вере, иезуита из Уэльса Мэнли Хопкинса.[73] Весной тысяча девятьсот шестнадцатого года в Риме сам Папа рукоположил его.
Вскоре выяснилось, что времени на постижение вечной истины и на теологические споры с учеными собратьями у него уже нет. Не осталось времени и на занятия поэзией. В начале лета Ласкаля назначили капелланом в пехотный батальон французской армии. А осенью он уже читал заупокойные молитвы над братскими могилами. В ходе битвы при Вердене французы за день теряли сотни бойцов и хоронили убитых во рвах, присыпанных гашеной известью.
— Кто-нибудь из вас имеет хоть какое-то представление, что там происходило?
— Полагаю, святой отец, Полу ближе Пасхальное восстание,[74] — ответил за обоих Мейсон. — Для него шестнадцатый год скорее связан с именами Патрика Пирса,[75] Майкла Коллинза[76] и с захватом почты на О'Коннелл-стрит.[77]
— Между прочим, тогда она называлась Сэквилл-стрит, — вмешался Ситон. — Впрочем, вы правы. Я ничего не знаю о Вердене.
— Это название целой системы укреплений, считавшихся неприступными, — сказал Мейсон. — Их построили французы, чтобы отражать атаки немцев. Но фортификации эти были чересчур громоздкими и требовали слишком много людей. Уже в тысяча девятьсот четырнадцатом все более-менее толковые немецкие военачальники знали, что Верден можно легко обойти мобильными пехотными подразделениями. Однако начальник генерального штаба Германии фон Фалькенхайн прекрасно понимал, что французы будут стоять до конца. Верденские сооружения были для них чем-то вроде национальной гордости. Массированное наступление должно было оттянуть на себя основную часть сил французской армии, что сделало бы ее легкой добычей. По мере того как отодвигалась линия фронта, Верден оказался словно на острие клина. Его можно было расстреливать тяжелой артиллерией с трех сторон. Французы до сих пор называют битву при Вердене последним решающим сражением. Хотя на самом деле это была самая обыкновенная бойня, печально прославившаяся лишь числом погибших.
— Осада началась в феврале, — сказал Ласкаль. — А к октябрю Верден бесславно пал. К тому времени около миллиона человек были убиты или ранены.
Он замолчал, вспоминая те события. И воспоминания эти были так тягостны, что лицо его омрачилось.
— Осенью я только и делал, что наставлял выживших, утешал раненых и отпевал бесконечное число убитых, уже не вкладывая в это души. Я утратил веру. Человеческими жизнями управляли жестокость, случай, порой даже нелепая случайность. Выжить можно было только за счет инстинктов или хитрости. Не было никакой загробной жизни. Не было надежды. А потому не было и Бога.
Ласкаль снова замолчал.
— Зачем же вас направили в Пассендале? — не выдержал Мейсон.
— Вы, должно быть, думаете, потому что из-за Фалькенхайна я свыкся с кровавой бойней? Или потому что ваш генерал Хейг[78] задумал продолжить ее? На самом деле у британцев хватало своих капелланов всевозможных конфессий. У них не было особой надобности во французском священнике, утратившем веру.
— Тогда зачем вы поехали? — спросил Ситон. — Почему вас туда послали?
— Из-за Уитли, — ответил Ласкаль.
24
Эту историю он узнал еще до своего назначения, ибо слухи на фронте распространяются быстро и даже языковые барьеры не чинят серьезных препятствий для возникновения военных легенд и мифов. Так и до Ласкаля среди прочего дошли рассказы об английском артиллерийском офицере, солдаты которого настолько утратили боевой дух, что отказывались служить под его началом. Ситуация возникла самая нелепая, ибо взбунтовавшиеся артиллеристы были закаленными в походах ветеранами и опытными канонирами, доказавшими свое мастерство на поле брани. И дело было вовсе не в трусости, контузии или деморализации. Солдаты своими глазами видели нечто такое, что заставило некоторых из них даже под страхом военного трибунала отказаться воевать в этом подразделении. И эти люди твердо стояли на своем. Они твердо стояли на своем даже в интерпретации того, что видели своими глазами.
В офицера, о котором шла речь, попал вражеский снаряд. Сила ударной волны была такова, что от бедняги и мокрого места не должно было остаться. Однако когда после взрыва на еще дымящуюся землю дождем посыпались камни и осколки, солдаты увидели, как их командир вылезает из свежей воронки — оборванный, в тлеющем мундире, но целый и невредимый. Невероятно, но на нем не было ни царапины.
«Я пошел ему навстречу, — так было записано со слов бомбардира, обвиняемого в неподчинении. — Уже смеркалось, но видимость была хорошей. Хотя лучше бы она была похуже. Я тогда сразу заметил, что он как-то странно держится. Он не шатался из стороны в сторону, как раненые или контуженые, которые обычно словно ищут, куда бы помягче приземлиться. Наоборот, он был какой-то окоченевший, точно марионетка. Я подошел ближе, и в этот момент над нами вспыхнула ракета. Случилось так, что я заглянул ему прямо в глаза. Это невозможно передать. Глаза были мертвые. Они бликовали, совсем как стеклянные глаза у куклы чревовещателя. Но сами глаза были совершенно лишены жизни. Я застыл на месте, все еще стискивая в руках бинты из своего вещмешка, которыми собирался его перевязывать на случай, если он вдруг уцелеет. Ракета погасла, и он понемногу задвигался. Более плавно и уверенно — человечнее, что ли. Я же стоял как истукан и глядел на него. А он спокойно стряхнул грязь и пепел с лохмотьев, в которые превратился его мундир, и так резко вскинул голову, что я аж подпрыгнул. И потом он мне улыбнулся. Так, наверное, улыбается человек, лишенный души. Лучше объяснить не могу. Могу поклясться на Библии, что я капли в рот не брал. Еще со времен воскресной школы я запомнил одно слово. И слово это „мерзость“. Тем вечером на поле боя я увидел мерзость — ни больше ни меньше».
— Наш полковник дал мне почитать показания этого бомбардира, и я заинтересовался, — подытожил Ласкаль. — Множество странных противоречий. Перед нами был доблестный капрал, старый служака, который кидается под пули, пытаясь спасти своего командира. Он бывалый солдат, к тому же смелый. Однако что-то заставляет его не подчиняться старшему по званию.