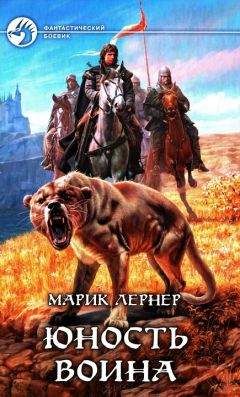Юрий Ищенко - Одинокий колдун
Он подумал, — не близится ли это смерть? — и втайне обрадовался смерти, но не показал этого. Он хотел ответить своим натиском на вызов стихий. Когда смерч приблизился, он собрал в сжатый, стиснутый комок все, что было, всю ненависть, злобу, отчаяние, — и кинул этот комок, как шипящую бомбу, навстречу смерчу. И разразилась невидимая, мгновенная, страшная гроза в белом небе над набережной. Тяжкий грохот от столкновения двух сил раздался по всему пустому пространству. В лицо колдуну ударил горячий сухой воздух и густые клубы пыли. Качнулась твердь под ним, но он устоял. Ухнула, вскинувшись и опав в своем русле, Нева. Гигантские фонтаны с белой пеной вознеслись вдоль ее каменных берегов.
И столкновение констатировало ничью. А у Егора опять переменилось зрение: стали прозрачными вода и суша, колдун мог узреть кости, камни, многометровыми завалами погребенные в топях под Невой и под Васильевским островом, — кости тех, на ком держался, кем строился два века этот город, мраморные и гранитные игрушки над бездонными северными болотами. Потревоженные мертвецы грозили колдуну костлявыми руками. Он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть, и чтобы его легче стало уничтожить.
Но его не уничтожили. Оглушенным, ослепшим он простоял там долго. А позже выползли из восточного угла неба черные тучи, полил ровный и густой, как жирный бульон из свинины, дождь.
Его окликнули сзади, со стороны церкви. Он обернулся: за изорванными смерчем, черными от дождя деревьями, через дорогу, на полуразрушенной лавке сидела женщина. Сидела как-то неловко, боком, и выжидательно смотрела на него. Это пришла, сама ли, или повинуясь разнервничавшимся стихиям, Малгожата.
Была какая-то усмешка жизни в том, что — страдая по ней, желая умереть без нее, ругаясь и сражаясь, — колдун первым делом ощупал нож в кармане. Опомнился и пошел к ней, встал над сидевшей.
— Никогда такого буйства не видела. Даже представить не могла, — сказала она без улыбки. — Ты пытался весь город разнести?
Она сильно переменилась. Худое и потемневшее лицо кладбищенской плакальщицы, с двумя продольными морщинами на впалых щеках. Поникшие пряди пыльных, нечесаных волос быстро темнели, намокая под дождем. Она будто стала гораздо старше, лет на десять или на двадцать, и все ее лицо выражало скуку и разочарование, лишь желтые глаза продолжали гореть нестерпимым, ярким в белой ночи блеском. И Егор не мог до конца признать ее.
— Я искал тебя, — сказал он.
— Ну уж, могу себе представить, — горько усмехнулась Малгожата, шевельнулась на лавке, сморщилась от боли. — Врать не буду. Я убила твоего брата, не из мести за Ханну или еще зачем, просто так. Захотелось мне напиться крови. Я не переживала, не мучалась, с удовольствием вцепилась в его детское горлышко.
— Я не хочу мстить тебе. Я не хочу быть колдуном. Давай вместе уедем, — тоскливо предложил Егор.
— Некуда нам укрыться, ни мне, ни тебе. За шкирку сюда же приволокут, — равнодушно сказала она. — Все же интересно, как ты нашу совместную жизнь себе представлял? Сам начнешь отлавливать людишек мне на пропитание? Или грабить в больницах холодильники с донорской кровью? Суть в другом. У меня сломано бедро. Я трое суток ничего... никого не ела, — она зловеще ухмыльнулась. — От голода боль такая страшная. Даже сейчас слегка мечтаю чей-нибудь, пусть и твоей жуткой кровушки, испить. Трудно мне было на этот остров добраться...
Егор слушал, кривясь от жалости к ней. И не хотел, но понял, зачем Малгожата предстала перед ним.
— Нет, я не сделаю этого. Ни за что, — сказал он и отступил назад.
— Чем же меня нужно умерщвлять? Колья, серебро, или, наверно, святая водица из церкви, — вяло бормотала девушка. — Оно должно быть у тебя с собой. Покажи мне, очень любопытствую.
Она сидела и говорила перед ним. Он ждал этой встречи, искал ее, — но никакой радости теперь не испытывал. Та же тоска кромсала нутро широким мясницким ножом. Он видел, из какого ада пожаловала эта девушка. Вынул из кармана, помедлив, нож, сверкнувший бледным серебряным блеском. Показал ей на раскрытой ладони.
Малгожата этого и ждала, как освобожденная тугая пружина, одним рывком дотянулась до Егора, выбила из руки и подхватила на лету нож. Вцепилась обеими кистями в тонкую неудобную рукоять, погрозила мимолетно ножом Егору. И с короткого замаха всадила лезвие глубоко себе под левую грудь, в ту горячую мокрую глубину, где билось ее сердце. Несильно вскрикнула от боли, удивленно, словно опомнившись или внезапно о чем-то догадавшись, запрокинула лицо к хлещущим струям дождя. Она упала, соскользнув с лавки, на асфальт с кипящими пузырями лужами. Егор быстро подсел на корточки, приподнял ей голову и плечи, не решаясь вынуть глубоко упрятанный в теле нож.
— Ну вот, — сказала она, выплевывая плески розовой крови, — уже легче...
И умерла у него на руках.
8. БудниСолнечные или пасмурные, потные или прохладные дни сменялись ночами; ночи выцвели и почернели, как бесхозное серебро, и стали совсем холодными. На смену солнцу зарядили протяжные нудные дожди. Комаров в то лето развелось как никогда много, до полного безобразия, и в промтоварных магазинах нельзя было сыскать ни куска марли, ни сетки для окон. Но пришли хрусткие ночные заморозки и погубили серые комариные стаи. Набрякла, огрубела листва, понемногу приготавливаясь к увяданию, смене цвета и прощальным затяжным прыжкам навстречу размокшей земле. Затем кончился август. Словно старая чахоточная дама, с устаревшим изыском вальсирующая в тусклых мокрых кружевах, заявилась в город длинная и темная питерская осень.
В первых числах октября выпал первый ненадежный снег, еще мягкий, быстро тающий. По ночам трещали корками сине-черного льда глубокие лужи. Густо посверкивала зелеными и коричневыми тонами отсыревшая штукатурка старых домов. И безнадежно мерзли в церковном подвале, за кирпичными стенами в метра два шириной старый священник и Егор. Егор выпросил в школе пару электрических обогревателей, но и они не спасали от вековой промозглой сырости. Железную печурку еще не топили; у старика был свой рецепт сугрева, — мутный самогон, разлитый в двухлитровые банки. На магазинное питье ему денег никогда не хватало, и Егор его пшеничным напитком не собирался баловать.
И каждые сутки до двух-трех часов ночи, по большей части в молчании, они сидели и ждали урочного времени. После натягивали одинаковые ватные телогрейки, брали по тяжелому мешку и топали прочь по пустым асфальтированным линиям Васильевского Острова. Они заканчивали вбивать осиновые колья в землю кладбища, там где нынче зеленел безобидный заброшенный сквер, и где надо было ждать Исхода.