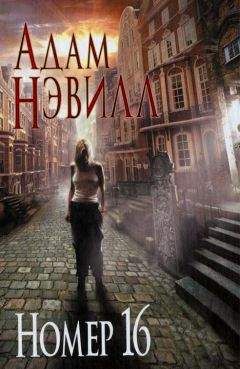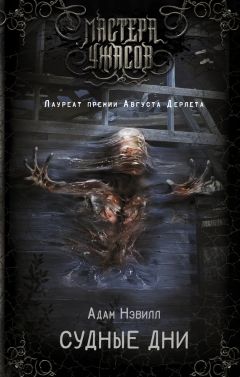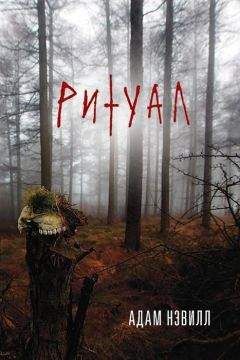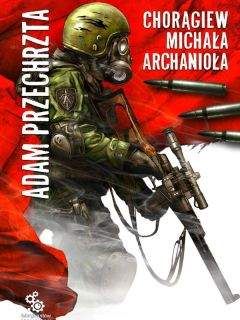Багрянец - Нэвилл Адам
Призраки этих фермеров смеялись над бородачами, приезжавшими к Тони из Лондона в совершенно неподходящей обуви и ковылявшими в ней по густой скользкой грязи на лугах и во дворах».
– Это было идеей твоего отца.
«Тони мечтал жить на ферме; убежать подальше от системы, от начальников, менеджеров, бухгалтеров, налоговиков; от этих змей, узурпаторов, предателей, эксплуататоров, ложных пророков, манипуляторов, иждивенцев… подальше от всех них, и от Джесс тоже. Но она так и не отпустила Тони – некогда он обещал ей детей, вдали от бессонного, утомительного, непостоянного существования менестреля, который всегда в дороге.
А больше всего Джесс хотела освободить Тони от самого себя и склонности к безумию, процветавшей в его хрупкой мальчишеской голове».
– Я хотела семью и детей… мы собирались усыновлять.
– Краснота дает, – сказал Финн. – Всегда дает и давала.
«Такова была их мечта – стать молодой семьей на старой ферме, далеко-далеко от всего, что отвлекало и уничтожало ее мужчину. Вместе она и Тони снова стали бы детьми на заре времен, когда еще не началась история и не появился дядя, на которого надо работать.
Когда Тони вышел из больницы в Суррее, она спрятала его вдали от всех, поддерживала его желание сеять и пожинать, брать пищу у земли, выращивать „траву“, настаивать сидр, вставать и ложиться вместе с солнцем».
– Я начинала думать, что это возможно – твой отец видел, как это делают другие. Покупают фермы в Эссексе. Он завидовал им, но так и не смог измениться.
«Точь-в-точь как их сын Финн, посеявший новый урожай и сделавший их такими богатыми. Но отец Финна хотел просто лениво царствовать: находясь на гастролях и в Лондоне, он мечтал о небольшом личном государстве, которым было бы легче управлять и где его окружали бы восхищенные подданные. Его надел в Девоне стал бы подобен Эдемскому саду: никаких туристов, только пара местных ферм на красной земле.
Но какую странную музыку он нашел бы в этой части света, застрявшей в стародавней межвоенной эпохе? Шестидесятые прошли мимо Брикбера и Редхилла. Эти места обещали полнейшую изоляцию, но Тони она принесла только уныние и депрессию. Тишина долин и шелест моря за скалами вскоре поглотили их, и дни стали гулкими от одиночества.
Он снова начал пить, взялся за самокрутки, служившие ему костылями, и оказался в том же лабиринте собственных пороков, что и прежде. Он никогда не просил пустоты и забвения; ни безопасно сосуществовать с веществами, ни жить без них Тони не мог, и тьма снова взяла над ним власть. Месяц за месяцем его свет медленно угасал, и Тони стал подражанием самому себе».
– Он переехал сюда, и хуже с ним ничего случиться не могло.
«Его инструменты собирали пыль; призраки врагов терзали его, и Тони начал спорить с ними громким шепотом; лицо его приобрело болезненно-желтый цвет, и единственное, что веселило менестреля, – вечеринки и девушки вдвое моложе него. До того дня».
– На красной земле нельзя отдыхать, дорогой Финн. Ее нужно обрабатывать. – «Ею нельзя и владеть, но на время она пускает к себе управляющих». – Наше время прошло.
– Ее обработали до красноты, матушка, наша драгоценная ведунья.
«Самым страшным в тот день, под красной землей, вдали от слабого жидкого солнца, стало понимание, что здесь, внизу, едва ли что изменилось. Все под землей оставалось статичным на протяжении стольких лет, что Джесс не могла даже охватить их своим умом зараз. Когда на стенах появились эти изображения? Кто их сделал? – спрашивала она, но кто бы ей ответил? Изможденный старик и его тихий сын с желтыми глазами не сказали ничего, продавая Тони ферму. Обнаружить заброшенные карьеры и заросшую ненадежную землю, из которой некогда добывали окись железа и делали краску, можно было лишь при должном усердии; а найденные Джесс тоннели не знали шахтеров – они образовались естественным путем и остались чисты. Их древние входы засы́пались землей или поросли плющом, но оставались открытыми.
Наверно, эти картины на стенах важны, ценны? Без музыки откуда им сколотить состояние – из фермерства? Все это вращалось в ее уме. Джесс сама того не знала, но в той палате исполнились ее три желания».
– Именно здесь, мой умница-сынок, будущее решилось.
«Как решалось и будет решаться всегда».
– Красная земля нами овладела.
«Под кровавой почвой она увидела все о бывших местных обитателях, в древности оставивших на земле о себе память, как и ее семья в свое время. Картины показали ей идеи, которые раньше и в голову не приходили.
После первых художников пришли другие, поселились тут, срубили деревья в долинах, обнажили землю, исполосовали ее бороздами. Со временем Джесс увидела все: скотина топтала обнаженные, сухие холмы; землю ранили ради добычи минералов; и само место, и люди здесь покрывались ранами и шрамами, причиняли вред и получали его, а почва сворачивалась, словно кровь. Но некогда земля была дикой, как ее мужчина и все, кто был с ним; а здесь, под красным перекрестком, лежало место, которое – Джесс сразу почувствовала – всегда жаждало снова стать диким.
Джесс ясно помнила, что чувствовала перед этой наскальной живописью – она ощутила себя зерном, на кратчайший миг попавшим в загадочное чудесное место».
– Это твой отец загнал меня под землю с этой дурочкой. Как ее звали?
«Его любовницу? Мэдди. Ее звали Мэдди, и Джесс отвела эту дурочку очень глубоко».
– Я даже держала ее за руку, как моя дочь держит за руку его. Как бледна была ее рука, Финн.
«Последние пути. Та дорога стала для девчонки в красных ботинках последней. А эта – последней для ее собственной семьи».
– Дети мои.
– Не плачь, матушка, не расстраивайся. Тише, тише. Мы на месте. Теперь обернись краснотой, матушка, поверни детей вокруг себя, любимая. Ты – наша колонна.
«То самое первое лето, подобных которому не случалось».
42
Небо над морем темнело, ветер дул с востока, беспокоя воду вдали и неся с собой холодные колючие брызги.
Патрульная машина остановилась на вершине долины, где земля обретала неприятно знакомый вид: сквозь ветровое стекло Хелен узнала дыры в асфальте и заросшие обочины. Она с горечью вспомнила, с каким облегчением обнаружила перекресток в тот самый первый раз – именно здесь, запыхавшись и утомившись после крутого подъема, она нашла то, о чем говорила последняя запись Линкольна, сделанная на компакт-диске.
Тогда стальные ворота, ведущие на тропу, были открыты, а створки скрывались под листвой. Теперь же их заперли, и двое мужчин стояли у ворот, лениво прислоняясь к металлическим прутьям, словно в ожидании незваных гостей.
На случай дождя (который теперь стучал по крыше автомобиля) охранники надели зеленые резиновые сапоги и дождевики, закрыв лица капюшонами, а под капюшон надев шапки. Они прятали подбородки под застегнутыми шерстяными куртками, так что лица было плохо видно.
За воротами нестриженая трава, сорняки, изгородь и деревья сплетались в трубу, ведущую прямо к ферме. Один лишь взгляд в эту трубу пробудил в Хелен воспоминание, как псы бросались на нее, загоняя в живую изгородь. «Кент».
Оба офицера полиции вышли из машины и начали разговор у ворот. Хелен приоткрыла заднее окно, но ничего не расслышала.
Она находилась в безопасности в полицейской машине, но это не мешало ей часто дышать от нарастающей тревоги. Ей хотелось, как только полицейские вернутся, выбраться из машины и уйти. Здесь было небезопасно – Линкольн никогда больше ничего не записал, после того как поставил здесь микрофоны. Они бросили его в красноту.
Хелен позволила полиции уговорить ее вернуться, хотя офицеры ей не верили.
С полицейскими у ворот говорил только один из незнакомцев: его ленивая осанка дышала неуважением к должностным лицам – поведение невежливое и, без сомнения, утомительное для полицейских. Офицер-мужчина напряженно скрестил руки.