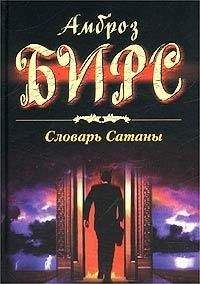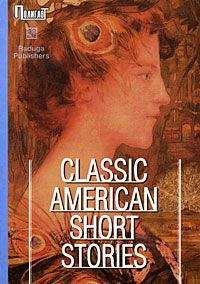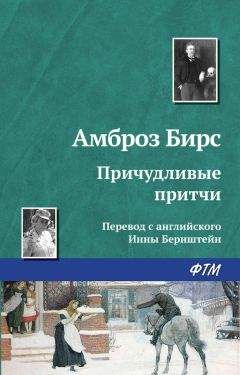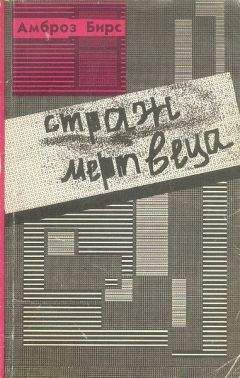Амброз Бирс - Диагноз смерти (сборник)
Итак, уверясь, что не ошибся насчет времени, он возвращал часы на место и быстро шел на юг. Миновав два квартала, он поворачивал направо и, подходя к следующему углу, устремлял взор на одно из верхних окон трехэтажного здания, что стояло через дорогу. Дом этот некогда выстроили из красного кирпича, но к тому времени он был скорее серым – поменял цвет от старости и пыли. Строили его для того, чтобы в нем жили люди, но вскоре там завелась фабрика. Уж не знаю, что там производят; наверное, те вещи, которые обычно делают на фабрике. Знаю только, что всякий день, кроме воскресений, в два часа пополудни здание грохотало и разве что не дрожало. Огромные машины скрежещут, визжит древесина, которую терзают пилами. Мужчина устремлял пристальный взгляд на одно из окон фабрики, хотя разглядывать там нечего – на стеклах, правду сказать, столько пыли, что они давно уже не прозрачны. Мужчина, о котором мы ведем речь, смотрел на окно не отрываясь, лишь поворачивал, проходя, голову назад. Дойдя до следующего угла, он поворачивал налево, обходил вокруг квартала, и возвращался на то же место, через улицу от фабрики, после чего снова поворачивал и шел, глядя через правое плечо, пока окно не пропадало из поля зрения. Многие годы он, насколько известно, не менял свой маршрут и не добавлял к нему ничего нового. Через четверть часа он снова оказывался во «рту» своего жилища, и женщина, уже поджидавшая его, стоя в «носу», помогала ему войти. И он исчезал в доме – до двух часов следующего дня.
Эта женщина – его жена. Она кормит и себя, и мужа, обстирывая соседей – окрестную бедноту – за такие гроши, что для них стирать самим или тащить тряпье в китайскую прачечную просто не имеет смысла.
Человеку этому пятьдесят семь или около того, хотя выглядит он гораздо старше. Волосы у него совершенно седые. Бороду он не носит и всегда свежевыбрит. Руки у него чистые, ногти хорошо ухожены. Что касается одежды, то она, пожалуй, слишком хороша и для такого жилища, и для занятия жены, да и для его собственного положения. Пошита она из весьма добротной ткани, которая совсем недавно была еще в моде. Шелковая шляпа мужчины сработана не раньше прошлого года, ботинки заботливо начищены и заплаток на них не заметно. Я слышал, будто костюм, в котором он каждый день выходит на свои пятнадцатиминутные прогулки, – совсем не тот, что он носит дома. Им, как и всем своим имуществом, он обязан жене: она чистит его и штопает, да и прикупает к нему что-нибудь, когда позволяют ее скудные средства.
Тридцать лет назад и Джон Хардшоу, и его жена жили на Ринкон-хилл, в одном из прекраснейших домов этого квартала, некогда считавшегося аристократическим. Когда-то он был врачом, но, унаследовав от своего отца значительное состояние, перестал интересоваться болезнями ближних своих, благо хватало забот по управлению собственными делами. И он, и его жена отличались прекрасными манерами и принимали в своем доме довольно узкий круг себе подобных, то есть состоятельных и благовоспитанных. Насколько известно, мистер и миссис Хардшоу были счастливы вместе; и жена не только обожала своего красивого и умного супруга, но и чрезвычайно им гордилась.
Среди их знакомых были Баруэллы из Сакраменто – муж, жена и двое маленьких детей. Мистер Баруэлл был гражданский и горный инженер, чьи обязанности часто уводили его далеко от дома и приводили в Сан-Франциско. В таких случаях жена обычно приезжала с ним и проводила довольно много времени в доме подруги, миссис Хардшоу. С нею приезжали и дети, числом двое, которых миссис Хардшоу, сама бездетная, очень любила. К несчастью, ее супруг влюбился в их мать, причем не на шутку. К еще большему несчастью, эта очаровательная леди была не столь мудра, сколь слаба.
Одним осенним утром, часа в три, патрульный № 13 полиции Сакраменто увидел, что какой-то мужчина украдкой выходит через черный ход богатого дома, и тут же его задержал. Мужчина этот – на нем была шляпа с обвисшими полями и ворсистое пальто – по пути в участок предложил полисмену сперва сотню, потом пять сотен, потом тысячу долларов, лишь бы тот его отпустил. Поскольку при себе у данного субъекта и сотни-то не было, добродетельный полисмен с презрением отверг его посулы. Уже у дверей участка задержанный посулил ему чек на десять тысяч долларов и предложил приковать себя наручниками к иве на берегу до тех пор, пока чек не будет оплачен. Поскольку патрульный высмеял и это предложение, он смолк, а на вопрос об имени назвал явно фиктивное. В участке его обыскали и не нашли ничего ценного, кроме миниатюрного портрета миссис Баруэлл – хозяйки дома, близ которого его поймали. Портрет был украшен весьма крупными алмазами, и это вызвало у неподкупного патрульного № 13 острое, но запоздалое сожаление. Документов при задержанном не было, равно как и меток на одежде, так что он был зарегистрирован как Джон К. Смит, подозреваемый в краже. Инициал «К.» был плодом его вдохновения, и он этим, похоже, немало гордился.
Между тем по поводу таинственного исчезновения Джона Хардшоу среди обитателей Ринкон-хилл в Сан-Франциско пошли самые причудливые сплетни, да и одна из городских газет внесла свою лепту. На все это леди, которую газета успела назвать вдовой, обращала мало внимания, и уж конечно, ей даже в голову не могло прийти искать мужа в городской тюрьме Сакраменто, города, в котором он, насколько ей было известно, никогда не бывал. Вскоре Джону К. Смиту было предъявлено обвинение, а дело его – передано в суд.
Приблизительно за две недели до суда миссис Хардшоу случайно узнала, что ее муж задержан в Сакраменто под вымышленным именем по обвинению в краже, поспешила в этот город и явилась к тюремному начальству с просьбой о свидании с мужем, Джоном К. Смитом. Вконец измученную переживаниями и бессонной ночью на пароходе, одетую в глухой дорожный костюм, ее едва ли можно было принять за леди, но манеры говорили сами за себя, да и добиваться свидания она готова была даже через суд. Так или иначе, ей разрешили повидаться с обвиняемым с глазу на глаз.
О чем они разговаривали, так никто и не узнал, хотя более поздние события указывают, что мистер Хардшоу нашел какой-то способ подчинить ее волю своей. Убитая горем, она вышла из тюрьмы, не ответив ни на один вопрос, и вернулась к себе домой. А поскольку в Сан-Франциско слишком многим пришлось бы объяснять, куда подевался ее муж, она через неделю уехала и сама. «Возвратилась в штаты» – вот и все, что о ней было известно.
На суде обвиняемый сразу же признал себя виновным – «по совету своего адвоката», как сказал все тот же адвокат. Но судья, которому обстоятельства дела показались не совсем ясными, настоял на том, чтобы окружной прокурор допросил под присягой патрульного № 13 и чтобы присяжным были зачитаны письменные показания миссис Баруэлл, которая в это время болела и не могла явиться в суд. Сообщить же она могла не так уж много: по существу дела ей было нечего сказать, за исключением того, что портрет и в самом деле принадлежал ей, и в ту ночь она, скорее всего, оставила его на столике в гостиной. Она хотела подарить его мужу, когда тот вернется из Европы, куда ему пришлось отъехать по делам своей горной компании.