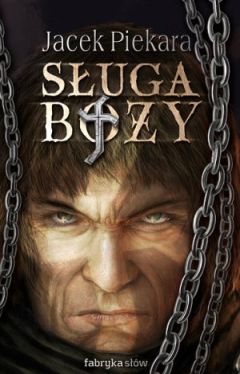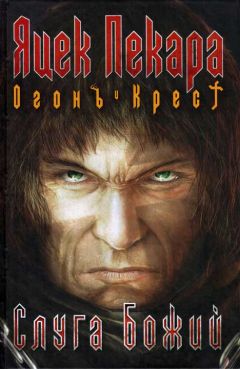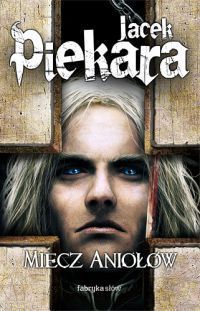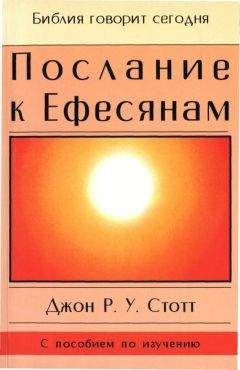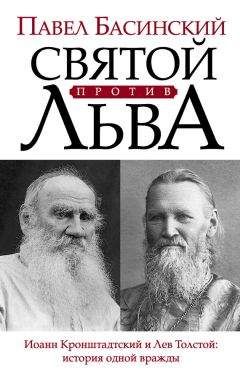Яцек Пекара - Молот ведьм
Допрашиваемая женщина была молодой, худенькой, с маленькими стопами, кистями и грудью. Я видел, как она расширенными глазами наблюдает за палачом, перебирающим инструменты в жаровне, и пытается приподнять голову, чтобы видеть лучше. Тяжело дышала, а её выдох ежеминутно превращался в полный отчаяния всхлип.
— Знаешь, кто это? — спросил я.
— Какая-то мещанка. — Он пожал плечами. — А может монашка. — Он почесал в голове. — Сейчас узнаем.
Дверь внизу скрипнула, и внутрь быстрым шагом вошёл каноник Тинтарелло, а за ним двое одетых в чёрное семинаристов и писарь, которому — как я заметил — было трудно сохранять равновесие.
— Даже нет инквизитора, — заметил я.
— Нас не приглашают на допросы.
Палач вскочил от жаровни и склонился перед каноником. Тот махнул ему рукой, после чего с шумом подвинул себе стул. Сел с громким оханьем, и лишь после него сели остальные допрашивающие. В жёлтом блеске свечей я прекрасно видел пергаментное, высохшее лицо каноника. Его узкий, сжатый рот напоминал скорее шрам от раны, чем человеческие губы, а острый подбородок и нос в форме воронова клюва придавали лицу демонический вид. Тинторелло выбривал себе череп наголо и только на макушке отставил что-то вроде тёмного пучка волос. Выглядело это чересчур своеобразно, тем более, что щёки и лоб у него были отмечены рытвинами от перенесённой оспы.
— Его только в цирке показывать, — прошептал я, а Андреас беззвучно рассмеялся.
— Так что начинаем, — объявил звучным голосом каноник. — Именем Бога и во славу Ангелов. Вознесём молитву, братья.
Все снова встали (писарь при этом пошатнулся, и ему пришлось опереться о поверхность стола), и Тинталлеро начал долгую молитву. Надо признать, он обладал актёрскими способностями. Его голос то громыхал под самым сводом, то становился приглушённым, прямо-таки до страстного шёпота. Потом каноник громко сказал «Аминь» и размашисто перекрестился.
— Напомните нам… — обратился он к писарю.
— Обвиняемой Эмме Гудольф… — Писарь старался говорить отчётливо, в связи с чем каждое слово произносил с порядочным отступом от другого. — Показаны инструменты и объяснено их действие. Обвиняемая не признаётся в греховных деяниях, коими являются…
Каноник был уже не в силах выносить того темпа, в котором читал писарь, поэтому нетерпеливым движением руки вырвал у того документы и повернул лист к свету.
— … участие в шабашах, наведение чар, вызывание дьявола, осквернение святынь, отравления, убийства, прелюбодеяние и содомия. — Он отбросил документы от себя. — Эмма Гудольф, проклятая колдунья, ты признаёшься в названных деяниях?
— Нет, умоляю вас, я невиновна, умоляю, добрый отче, не мучайте меня, я ничего не сделала… — Палач ударил её по лицу тыльной стороной кисти, тут-то она бурно разрыдалась и замолчала. Теперь был слышен лишь её тихий, отчаянный плач.
— Начнём от шабашей, мерзкая блудница, — произнёс каноник строгим тоном. — Разве неправда, что ты готовила сатанинские мази, которыми мазалась между ног и подмышками, которыми также мазала метлу или лопату, а потом летела на шабаш на пик Руперта, который вы, ведьмы, называете Лысой Горой? — Под конец его голос вознёсся до крика.
— Неправда, неправда! Я не ведьма! — У неё был высокий, детский голос, и палачу снова пришлось её ударить, чтобы перестала кричать.
Я видел, что её всю трясёт от страха и холода. Я посмотрел на Андреаса и покрутил головой. Каноник ничего не смыслил в искусстве допрашивания. С такой девушкой следовало обходиться предупредительно и деликатно. Держать её за руку, обращаться ласковым голосом, глядя прямо в глаза. Даже причиняя ей боль либо приказывая причинить ей боль, следовало быть полным любви и сочувствия. Тогда она, рано или поздно, открыла бы все тайны сердца своего перед следователем. А каноник, самое большее, мог принудить её сказать то, чего он сам желал. Кто знает, может, впрочем, именно это ему было нужно?
— Так ты утверждаешь, что не готовила никаких мазей, ведьма?
— Нет, господин!
Каноник покопался в документах и вытащил из стопки бумаг какой-то лист. Сощурил глаза и прочитал.
— Возьми пепел нетопыря, сожжённого в полночь, добавь к этому десятую часть кварты месячных девственницы, две унции перетопленного жира некрещеного младенца, растёртый корень мандрагоры, яд жабы, пот чёрного козла. Перемешай всё в глиняной посуде на развилке дорог, под виселицей, где в этот день повесили человека. Произнеси молитву наоборот и громко скажи: «так помоги мне, Сатана, чёрный мой властитель». Ты отрицаешь, что проводила эти богохульные ритуалы?
Девушка явно не поняла вопроса и только застонала протяжно, так что палачу снова пришлось ударить, чтобы замолчала.
— Признаёшься? — рявкнул каноник и наполнил свой кубок из бутыли. Часть напитка пролилась на стол.
— Смилуйтесь, я невиновна…
— Вижу, ты еси строптива, а твой хозяин, Сатана, не позволяет тебе признаться в грехах перед судьями, поставленными матерью нашей — Церковью единой и вселенской. — Каноник встал с места и гремел на весь зал. — Посему время нам склонить тебя говорить правду методами, кои более подходят таким как ты, греховным и богохульным дьявольским отродьям…
— Любовь, милосердие и сочувствие. Вот вторые имена нашего каноника, — съязвил я.
— Если эта девка ведьма, то я чёрный козёл, — буркнул Кеппель, но так тихо, чтобы случаем никто из людей внизу этого не услышал.
Трудно было с ним не согласиться, хотя, конечно, я не знал, что за причины склонили каноника допрашивать именно эту девушку. В любом случае, у меня было непреодолимое ощущение, что он ненавидел людей, которых допрашивал. И этим показал себя только хуже, поскольку даже самый тупой инквизитор знал, что по отношению к обвиняемым мы должны быть полны безбрежной и способной на любые жертвы любви. Не всегда это удавалось, особенно перед лицом наиболее закоренелых грешников, и не всегда у инквизиторов хватало терпения и милосердного огня в сердце, но в любом случае таков был идеал, к которому мы должны стремиться, невзирая на тяготы.
— Начнём с прижигания подошв. — Я видел, что он сощурил глаза, а его рот растянулся в жестокой улыбке.
Палач вынул из жаровни факел, после чего приблизил его к стопам девушки. Она закричала, а её тело изогнулось в приступе боли. Шнуры и зажимы впились в обнажённое тело.
— Держи, держи, — сказал Тинтарелло, когда палач посмотрел на него.
Девушка выла как осуждённая на вечные муки. Дёргалась так сильно, что кожа на её запястьях и лодыжках лопнула, и появились багровые кровоподтёки. Она прикусила язык, и сейчас кровь хлестала ей на подбородок и грудь.