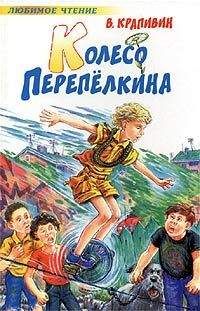Владислав Женевский - Запах (сборник)
Литтлвит наверняка играл на публику, а вот выдумывал вряд ли: даже если медицина и не признает паралича воображения, жертвы недуга исчисляются миллионами. И это тоже преимущество, пожалуй.
Бросив прощальный взгляд на переулок и мысленно пожелав собаке удачи, Фэрнсуорт взял трость и неуклюже сполз с подоконника. Он каждое утро убеждал себя, что нет ничего гнусней должности литературного редактора в «Миррор», но всякий раз панорама крыш приводила его в чувство. Этот город был достаточно уродлив и с уровня земли; сверху он походил уже не на фурункул, а на вздувшуюся опухоль.
Прошаркав по узкому коридору в кабинет и ответив по пути на несколько вялых приветствий, Фэрнсуорт уселся за стол у окна. Соня на миг подняла глаза. Да, я костлявый и лысый. Да, зубы у меня желтые, а линзы на очках толще пальца. Да, доктор Паркинсон – мой старинный приятель. И да, я буду сидеть напротив тебя, пока кто-то из нас не сдохнет – ты или я. И знаешь, мне почти без разницы, кто это будет.
– С добрым утром, мисс Грюнберг. Рано вы сегодня.
– Доброе утро, мистер Райт, – механически прозвучало с другой половины кабинета.
– Какая очаровательная у вас блузка. Полагаю, я уже говорил, что вишневый – мой любимый цвет?
– Это сливовый, мистер Райт, – холодно обронила Соня и снова уткнулась носом в печатную машинку.
– Ах да, простите… вечно путаю оттенки. Но вы равно прекрасны и в вишневом, и в сливовом, мисс Грюнберг.
Не дождавшись ответа, он скрежетнул зубами и принялся за работу.
На столе возвышалась кипа сегодняшней корреспонденции. Конверты из манильской и обычной бумаги – некоторые потрепанные, некоторые совсем новенькие, но заполненные одной и той же субстанцией – дерьмом. Для стороннего человека это были бы рукописи и письма, но Фэрнсуорт держался мнения, что профессионал имеет право называть вещи своими именами. Дерьмо. Иногда оно даже пахло – дешевыми вдовьими духами, дрянным табаком, горелым жиром.
Следующие полтора часа ушли на заполнение корзины для бумаг. Конверты, подписанные с ошибками, отправлялись туда нераспечатанными. Прочие отнимали чуть больше времени – около минуты каждый. Комические куплеты о кошечке, забравшейся на дерево… Воспоминания пожилого коммивояжера… Трогательный рассказ о сиротках, беззастенчиво срисованный у покойницы Бронте… С миром действительно было что-то не так. Скоро одной корзины станет мало для этого потока.
На последнем конверте Фэрнсуорт запнулся. Средней толщины, дорогая бумага мраморного оттенка. Это еще ничего не значило: в среднем талант и толщина кошелька соотносились не более, чем размер обуви и склонность к астигматизму. И все же подобная забота об осязательных ощущениях редакторов «Миррор» вызывала чувство, отдаленно похожее на благодарность.
Отправителем значился некий Эдвард Софтли. Адрес, отпечатанный на машинке, гласил «СЕЙДЕМ-ХИЛЛ, 19». Фэрнсуорт что-то слышал об этом месте – кажется, площадь в Бруклине, – но он плохо знал город и не имел желания узнать его получше, хотя с переезда из Чикаго прошло четыре года. Некоторые его знакомые похвалялись, что давно забыли родные края и чувствуют себя в Нью-Йорке как рыба в воде. Болваны. В воде есть создания и покрупней, о которых рыбы даже не подозревают. И вот они-то там настоящие хозяева.
Вскрыв конверт, Фэрнсуорт извлек аккуратную белую стопку. Первый лист занимало лаконичное и донельзя при этом высокопарное авторское послание, далее следовала сама рукопись. Текст был разбит на две колонки. Заголовок возвещал:
ИСКУССТВО ЛЮБВИ,
или
Приключения Элизабет Беркли
Фэрнсуорт пожалел, что во рту у него пересохло и совсем не осталось слюны. И принялся переворачивать страницы, потому что этот вид дерьма в «Миррор» приветствовался и даже ценился.
«…ее первый бал. Накануне Элизабет долго не могла уснуть: все мысли в ее хорошенькой головке были устремлены к завтрашнему вечеру, когда…»
«…тайком поглядывал на нее. Элизабет почувствовала, что краснеет, но не в силах была устоять перед магией этого взгляда. Наконец юноша…»
«…приняли меня за кого-то другого, капитан! Как вы смеете даже намекать на подобные вещи в присутствии леди? Я отказываюсь верить, что ваш батюшка не привил вам подобающих манер!
– Элизабет, я лишь…»
Отложив последний лист, Фэрнсуорт какое-то время задумчиво созерцал поверхность стола – некогда светло-коричневую, теперь испещренную пятнами кофе и чернильными кляксами. Эдварду Софтли хватило наглости прислать в «Миррор» повесть, которую сочли бы безнадежно устаревшей и во времена Остин. С салонной прозы он сбивался на слезливый романтизм, а все потуги на стилизацию сводились на нет манерой викторианского порнографа и вульгарным подбором слов.
Трудность заключалась в том, что читатели «Миррор» отстояли в умственном отношении еще дальше – тысячелетия на три, не меньше. А значит, мистер Софтли имел немалые шансы на успех.
По крайней мере в тексте было на удивление мало ошибок.
Через мгновение Фэрнсуорт скривился, внезапно осознав: ошибок не было вообще. В каком-то смысле существование этой повести оскорбляло литературу больше, чем мемуары старого резонера или вирши о котятах. В их случае форма и содержание хотя бы находились в убогой гармонии. «Искусство любви» же напоминало сгнившего кадавра, на которого натянули свежую синтетическую кожу. Впрочем, до их появления оставалось всего ничего, если верить ученым.
Фэрнсуорт нехотя поднялся и мелкими шажками заковылял к кабинету главного редактора. Соня опять смерила его взглядом. Да, я костлявый и лысый, а руки мои дрожат. Но ты и представить не можешь, как я называю одну шлюху из Бронкса, когда вколачиваю ее в кровать. Тебе бы имя показалось знакомым.
И никакой блузки на тебе нет. Ни вишневой, ни сливовой.
Из-за двери главного, забранной матовым стеклом, просачивался привычный запах плохого пищеварения и спиртного – тоже плохого. Звуков, однако, не доносилось – и Фэрнсуорт никак не мог определиться, к добру это или нет. Но все же постучал. И, подождав немного, вошел.
Главный развалился в облезлом кожаном кресле – бесформенная туша с широкими плечами, мощной шеей и мясистыми брылами. Поговаривали, что он из тех, морских, однако Фэрнсуорт не замечал за ним приязни к воде – судя по некоторым очевидным признакам, ему и ванна-то была в диковинку. Конечно, глаза его по-рыбьи выпучивались, а жидкую растительность на макушке поела плешь, но обладателей такой наружности хватало и в Чикаго – за сотни миль от обоих океанов.
Сквозь подрагивающие веки главного виднелись пожелтевшие белки. На столе тикали часы в форме цеппелина – сувенир из атлантического круиза.