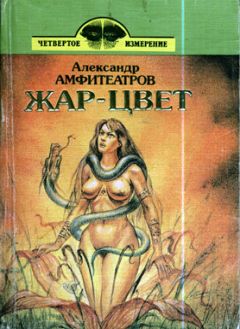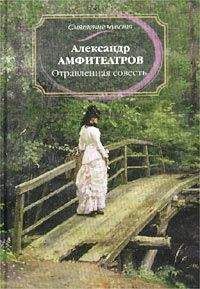Александр Амфитеатров - Жар-цвет
А пан грабя Винцент, мой гордый и холодный делец-брат, гроза московских и петербургских биржевиков? Его считают Наполеоном биржи, удивляются его финансовому гению, тонкости его расчетов, его всезнающей осведомленности, предвидению и провидению. Между тем, наедине со мною он сам не раз смеялся над своею незаслуженною репутацией.
— Верь мне, Валер, я осведомлен о пружинах, двигающих биржу, не более любого из зайцев, толкущихся в ее подворотнях. Быть может, даже меньше, потому что они своею подворотнею интересуются и усердно ее изучают, а я свои «сферы» — нет. Слишком скучны они, чтобы тратить на них время и труд исследования — довольно чутья. И никто о них, об этих пружинах не осведомлен, если хочешь знать. На моих глазах, мой друг, министры финансов проигрывались, потому что их заказы, данные, казалось бы, наверняка в одиннадцать часов, делались никуда не годными каким-то чудом к часу дня, Многие делают вид, будто они осведомлены, и даже сами тому верят, но они лгут или обманывают себя. Они сочиняют предположения и комбинации, а так как на бирже могут быть лишь две возможности: падение или повышение ценностей, — то, естественно, чьи-нибудь предположения непременно удаются. Не да, так нет, не пан, так пропал. И тогда те, чьи предположения принесли выгоду, прославляются глупою толпою, как финансовые мудрецы, а чьи предположения провалились, оказываются дурачками во мнении… дурачков же. На самом деле на бирже не бывает ничего, ни умного, ни глупого, есть только «везет» и «не везет». Исключения — заведомое мошенничество, биржевое шулерство, когда человек, зная темный государственный секрет или сочиняя ложную телеграмму, искусственно производит панику и роняет верные ценности с тем, чтобы полчаса спустя, когда мираж жульничества рассеется, продать свой запас бумаг по настоящей или высшей цене. Но подобными делами, хотя они считаются законными, я всегда брезговал. Это — не шляхетская нажива. Я всегда играл честно. Меня считают биржевым мудрецом, тогда как я только биржевый счастливчик. Деньги, голубчик, — океан, степь бездорожная. Я играю, потому что верю в свою звезду, и иду, куда меня влечет вдохновение… инстинкт… чутье золотого запаха… Я фаталист, мой друг, безнадежный и неизлечимый фаталист!..
В сущности, Винцент такой же авантюрист, как и я, только в другой области… Оттого-то он и любит меня, хотя мы видимся много-много если раз в пять лет. Я чувствую его симпатию через время и пространство. Я был в Японии, когда три года тому назад Винцент заболел дифтеритом. Он не телеграфировал мне, но я знал, что он болен… мне было нехорошо самому, и я догадывался, что мне нехорошо потому, что сейчас нехорошо и Винценту.
У него же, в смысле чутья по отношению ко мне, было в юности даже телепатическое приключение, о котором в свое время говорили и русский «Ребус», и заграничные спиритические журналы. У меня сохранилась вырезка из «Ребуса» с описанием этого странного случая в виде фантастического рассказа о «Белом охотнике» и под выдуманными именами. Николай — это брат Винцент, Берновка — Замостье, 3. П. Бернова — пани Замойская, а усадьба Николая — тот самый Зданов, где я в настоящее время нахожусь.
Это случилось в июльское полнолуние 1873 года.
Я был в гостях у соседки по имению Зинаиды Петровны Берновой, праздновавшей в тот день свое рождение. Когда гости собрались прощаться, уже совсем свечерело.
Кто, по настоянию хозяйки, остался ночевать, кто отправился восвояси. К числу последних присоединился и я.
До моей усадьбы считалось от Берновки что-то около трех верст; дорога шла полем и только близ самого дома пряталась сажен на сто в густой березняк — начало громадного казенного леса, покрывающего добрую четверть нашего уезда. В наших местах не шалили; про волков тоже не было слышно, да летом они и не опасны; у меня в кармане лежал револьвер. Сообразив все это, я отверг любезное предложение Берновой снабдить меня экипажем и пустился в путь пешком.
Ночь была дивная. Луна успела высоко взойти и все еще поднималась по небу. Берновка стояла на сухом холме, но за ее околицей я вступил в полусвет-полусумрак густого тумана, слегка посеребренного месяцем. Стало довольно свежо для июля. Впрочем, после ужина с достаточным количеством выпитого вина, после толкотни в душных, на куренных комнатах маленький холодок был даже приятен.
Я человек образа мыслей прозаического и рассудочного, воспитания материалистического, характера положительного и железного здоровья. Болезненная наследственность от матери, женщины весьма фантастической, последней представительницы древнего, угрюмого рода, давшего России целый ряд мистиков и религиозных искателей, сказалась во мне только в период возмужалости, когда меня ни с того ни с сего стали посещать припадки панического страха. Мне внезапно делалось жутко быть одному, перейти в другую комнату, стоять спиною к двери или зеркалу; жутко до того, что я бледнел, дрожал, обливался холодным потом. А между тем я не знал трусости ни пред какой явной физической опасностью. Ни пред человеком, ни пред зверем, ни пред трудным приключением. Я пробовал бороться против страха: если меня пугала темнота, я нарочно шел в потемки; если мне чудился неопределенный шорох, я исследовал комнату, пока не убеждался, что сробел… пред мышами! Но как-то раз, в сумерки, я грелся у камина в старом, темном кабинете деда моего. Меня посетил страх, тот особый страх: «Ты не обернешься назад, ни за что не обернешься!» — шептал мне голос сердца моего. Верный своему репрессивному лечению, я обернулся — и дрожь пробежала по моему телу. Не подумайте, чтобы мне предстал какой-нибудь фантом; нет, я не видел ничего страшного, скажу даже: ничего явственного. Но (не знаю, точно ли я выражаюсь) я почуял в темном углу кабинета движение или, вернее, содрогание чего-то живого, чужого мне. Не было никого, а как будто кто-то был в том месте. Я поясню примером — его легко могут проверить своим опытом все, кому в удел достались чуткие нервы: в большом темном зале сидит А.; Б. входит в зал без малейшего шороха, ни одним звуком, доступным человеческому слуху, не известив А. о своем приходе; тем не менее А, раз он нервно настроен, непременно почует хоть на одну секунду Б. и окликнет: «кто здесь?». Если уверять А., что «представилось», он согласится; но попросите его показать место, где «представилось», и А. безошибочно укажет сторону, откуда появился Б. Близкое к подобной чуткости, только гораздо более волнующее ощущение испытал я при описанном случае.
С тех пор движение стало бичом моим. Стоило мне остаться одному, и я уже чувствовал его пред собой. В длинные зимние вечера я погибал от этого неутомимого мелькания. Даже общество не всегда спасало меня. Я считал и считаю свое движение болезнью, несомненно основанной на чисто физиологических причинах: может быть, виной было временное поражение сетчатой оболочки, может быть, общее расстройство нервов, связанное с процессом возмужалости, привело в беспорядок и зрительный аппарат. Что главную роль в болезни играли глаза, я вывожу вот откуда: ни осязание, ни слух не участвовали в припадках; я ни одного звука не слыхал от движения, я ни разу не ощутил от него веяния. К семнадцати годам это неприятное недомогание покинуло меня совершенно, так что в пору, как я описываю свое приключение, я о «движении» забыл и думать.