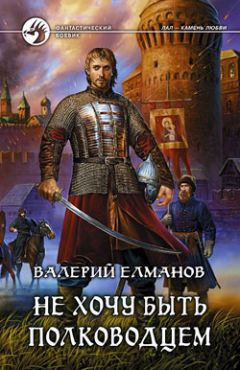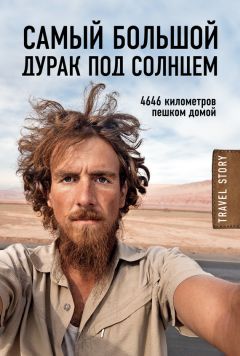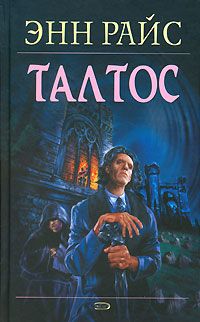Энн Райс - Талтос
— Эй, послушай, Мэри-Джейн! — сказала Мона. — В этом доме уйма хлеба. Ты можешь брать сколько хочешь. Вон там на кухонном столе целая буханка лежит. Я тебе принесу.
— Сиди! Ты беременна. Я сама.
Она вскочила с места, схватила буханку в пластиковой упаковке и принесла на стол.
— Как насчет масла? Хочешь масла? Оно вон там.
— Нет, я приучила себя есть без масла, чтобы экономить деньги, и не хочу к нему возвращаться, потому что, если потом у меня масла не будет, хлеб уже не покажется мне таким вкусным.
Мэри-Джейн надорвала упаковку, вытащила ломоть и тут же выдернула из него мякиш.
— Суть в том, — сказала она, — что я забуду слово «батибионты», если не буду его использовать, но «блаженство» я буду использовать и не забуду.
— Поняла. Но почему ты так на меня смотришь?
Мэри-Джейн ответила не сразу. Она облизнула губы, отломила еще кусочек мягкого хлеба и съела.
— Ты все это время помнишь, о чем мы говорили сначала, да?
— Да.
— И что ты думаешь о своем ребенке? — спросила Мэри-Джейн, и на этот раз вид у нее был слегка встревоженный, или, по крайней мере, казалось, что ее беспокоят чувства Моны.
— С ним что-то может быть не так.
— Да, — кивнула Мэри-Джейн. — Я именно это и предположила.
— Но он не будет каким-то гигантом, — поспешила заявить Мона, хотя с каждым словом ей становилось все труднее продолжать. — Он не какой-то там монстр. Но с ним может быть что-то не так, может быть, гены составили некую комбинацию…
Она глубоко вздохнула. Это, пожалуй, была самая сильная душевная боль, какую только она когда-либо чувствовала. Всю свою жизнь Мона тревожилась о ком-нибудь: о матери, об отце, о Старухе Эвелин, о людях, которых любила. И она познала множество горя, особенно в последнее время. Но тревога за ребенка была чем-то совершенно другим; она пробуждала в ней страх настолько глубокий, что он походил на панику. Мона заметила, что снова прижала ладонь к животу.
— Морриган… — прошептала она.
Что-то шевельнулось внутри ее, и Мона посмотрела вниз, только глазами, не наклоняя голову.
— Что-то не так? — спросила Мэри-Джейн.
— Я очень беспокоюсь. Но разве это не нормально — бояться, что что-то случится с твоим ребенком?
— Да, это нормально, — согласилась Мэри-Джейн. — Но в этой семье множество людей с той гигантской хромосомной спиралью, и у них ведь не рождались чудовищно уродливые дети. Я хочу сказать, ты же знаешь всю историю этих союзов?
Мона не ответила. Она думала. Какая, собственно, разница? Если ее дитя не в порядке, если это дитя… Мона заметила, что смотрит на зелень снаружи. Была еще первая половина дня. Мона подумала об Эроне, лежавшем в похожем на ящик склепе в их мавзолее, на полке над Гиффорд. Восковые чучела, накачанные какой-то жидкостью. Не Эрон, не Гиффорд. И с чего бы Гиффорд в ее сне копать яму в земле?
Тут Моне пришла в голову дикая мысль, опасная и кощунственная, но на самом деле не такая уж удивительная. Майкл уехал. Роуан уехала. Этой ночью Мона могла бы выйти в сад одна, когда никто уже не будет бодрствовать во всем доме, могла бы выкопать останки тех двоих, что лежали под дубом; и своими глазами увидеть, что это такое.
Единственной проблемой было то, что Мона боялась это сделать. Она много лет подряд смотрела множество фильмов ужасов, в которых люди совершали подобные поступки, тащились на кладбище, чтобы выкопать какого-нибудь вампира, или вдруг решали в полночь выяснить, кто лежит в какой-то могиле. Мона никогда не верила в подобные сцены, в особенности если герой проделывал все это самостоятельно, в одиночку. Это было бы уж слишком страшно. Для того чтобы выкопать какое-то тело, надо иметь куда больше храбрости, чем у Моны.
Она посмотрела на Мэри-Джейн. Мэри-Джейн, видимо, закончила хлебный пир и сидела, сложив руки и пристально глядя на Мону, что слегка нервировало. Глаза Мэри-Джейн приобрели тот мечтательный блеск, который появляется в момент, когда мысли просто блуждают, взгляд не пустой, но обманчиво сосредоточенный.
— Мэри-Джейн? — вопросительно произнесла Мона.
Она ожидала, что та вздрогнет, очнется, так сказать, и сразу же выдаст невольно, о чем думала. Но ничего подобного не произошло. Мэри-Джейн, продолжая смотреть на Мону все тем же взглядом, откликнулась:
— Да, Мона? — И ничто в ее лице не изменилось.
Мона встала. Она подошла к Мэри-Джейн и остановилась рядом, глядя на нее сверху вниз, а Мэри-Джейн все так же смотрела на нее большими пугающими глазами.
— Потрогай ребенка, вот тут, потрогай, не смущайся. Скажи, что ты ощущаешь?
Мэри-Джейн обратила взгляд на живот Моны и очень медленно подняла руку, как будто собиралась сделать то, о чем просила Мона, но потом вдруг резко отдернула ладонь. Она встала и отступила назад, от Моны. И вид у нее теперь был встревоженным.
— Не думаю, что нам следует это делать. Давай не будем колдовать над малышом. Мы с тобой молодые ведьмы, — сказала она. — Ты и сама это знаешь. А что, если это может… Ну ты понимаешь. Может как-то на него повлиять?
Мона вздохнула. Ей вдруг расхотелось говорить обо всем этом. Чувство страха было изматывающим и чертовски болезненным, так что с нее было довольно.
Единственным человеком в мире, способным ответить на ее вопросы, была Роуан, и Мона собиралась рано или поздно их задать, потому что она уже ощущала своего ребенка, а это было абсолютно невозможно. В самом деле, невозможно чувствовать, чтобы ребенок уже вот так шевелился, пусть даже это было едва заметное движение, если срок был всего шесть, ну, может быть, десять, ну, пусть даже двенадцать недель…
— Мэри-Джейн, мне нужно побыть одной, прямо сейчас, — сказала она. — Я не хочу быть невежливой… Просто этот ребенок очень меня беспокоит, вот в чем дело.
— Ты даже слишком любезна, что все мне объясняешь. Делай что хочешь. А я поднимусь наверх, если можно. Райен… Он отнес мои вещи в комнату тети Вив. Я там и буду.
— Можешь пользоваться моим компьютером, если хочешь, — сказала Мона. Она повернулась к Мэри-Джейн спиной и снова стала смотреть в сад. — Он в библиотеке, и в нем множество открытых программ. Он загружается сразу в WordStar, но ты можешь войти в Windows или Lotus, версии один-два-три. Там все элементарно.
— Да, я знаю, как это делается, не беспокойся, Мона Мэйфейр. А если я буду тебе нужна, позови.
— Да, обязательно. Я… — Мона обернулась. — Я действительно рада тому, что ты здесь, Мэри-Джейн, — сказала она. — А то ведь неизвестно, когда Роуан или Майкл вернутся.
А что, если они никогда не вернутся? Страх нарастал, даже страх перед разного рода случайностями, что вдруг приходили ей на ум. Ерунда. Все вернутся. Но как ни крути, они отправились искать людей, которые вполне могут захотеть что-то с ними сделать…
— Не стоит сейчас беспокоиться, дорогая, — сказала Мэри-Джейн.
— Да, — согласилась Мона, резко открывая дверь.
Она побрела по мощеной дорожке к заднему саду. Было еще совсем не поздно, и солнце стояло высоко, бросая свет на лужайку под дубом, и так оно и должно было быть почти до вечера. Самое лучшее, самое теплое время в заднем саду.
Мона прошлась по траве. Они должны быть похоронены вот здесь. Майкл подсыпал сюда земли, и тут выросла самая молодая, самая нежная трава.
Мона опустилась на колени и растянулась на земле, ничуть не беспокоясь о своей прекрасной белой рубахе. Рубах было так много… Вот что значило быть богатой, и Мона уже прочувствовала это, потому что имела так много всего и ей не нужно было носить дырявую обувь. Она прижалась щекой к прохладной земле и траве, и ее просторный правый рукав упал рядом с ней, как парашют, спустившийся с небес. Мона закрыла глаза.
Морриган, Морриган, Морриган… Корабли пересекали море, над ними горели факелы. Но скалы выглядели такими опасными. Морриган, Морриган, Морриган… Да, вот каким был тот сон! Бегство с острова на северное побережье. Скалы были опасными, а в глубине шотландских озер жили чудовища…
Мона услышала, как кто-то копает землю. Она не спала, она смотрела через лужайку на тигровые лилии и азалии в отдалении.
Никто ничего не копал. Игра воображения. «Это тебе хочется их выкопать, тебе, маленькая ведьма», — подумала Мона. Она была вынуждена признаться себе, что было весело играть в маленьких ведьм с Мэри-Джейн. Да, хорошо, что она приехала. Пусть себе ест хлеб.
Веки Моны опустились. И случилось нечто прекрасное. Солнце ударило в ее закрытые глаза, как будто ему перестали вдруг мешать какая-то большая ветка или облако, и свет превратил тьму в яркое оранжевое сияние. Мона почувствовала, как ее обливает теплом. Внутри ее, в животе, на котором она пока что могла спать, нечто снова шевельнулось.
«Мое дитя».
Кто-то снова пел детскую песенку. Да, это, должно быть, самая старая детская песенка в мире. Это ведь был староанглийский? Или латынь?