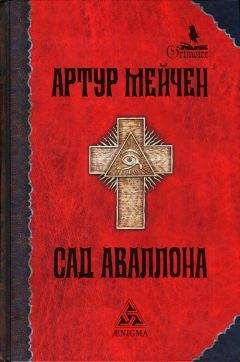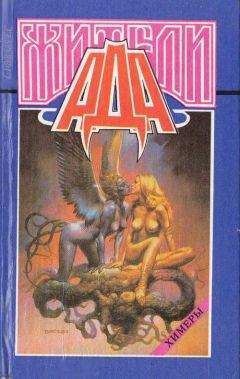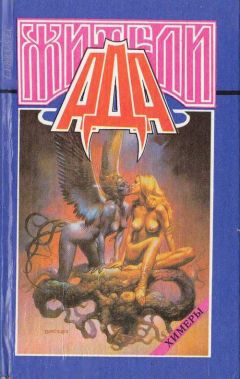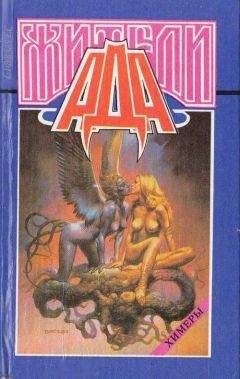Артур Мейчен - Холм грез
Не теряя надежды найти другой выход из долины, Луциан повернул было назад, но тут его внимание привлек маленький домик, расположенный справа, чуть в стороне от дороги. Когда-то узенькая дорожка вела к белой калитке, но за многие годы краска на калитке выцвела до черноты, дерево крошилось от малейшего прикосновения, да и дорожка заросла мхом. Железная садовая ограда повалилась, трава и настырные сорняки задушили цветочные клумбы. Однако среди этого буйства плевел, хищно тянувшихся вверх, порою мелькал тонкий розовый куст, а по обе стороны от главного входа росли самшиты — беспорядочные, буйно разросшиеся, но по-прежнему отрадно зеленеющие. Шиферная крыша поблекла и покрылась темными пятнами от капель, падавших с высокого вяза, что стоял на самом краю заброшенного сада. Покосившиеся стены тоже были отмечены сыростью и распадом — их желтая окраска почти смылась множеством дождей. К двери вело сводчатое крыльцо: оно так раскачивалось и кренилось под ударами ветра, что казалось — при следующем же порыве непременно завалится. На первом этаже, по обе стороны от двери, виднелись два окна. Еще два окна располагались наверху, над дверью. Пятое окно было наглухо заколочено.
Луциана очаровал этот старый, жалкий, покосившийся, обезображенный раскрошенным шифером и желтыми стенами домик. Мягкие и сочные краски черепичного свода теплые, темные тона красных стен были безвозвратно скрыты пятнами плесени и паутины. Без сомнения, счастливые дни этого дома ушли навсегда. Что-то роковое и ужасное мерещилось в нем Луциану — черные прожилки ползущих по стенам трещин и зеленая заплесневелость крыши казались ему не столько результатом воздействия непогоды и воды, годами льющейся с соседних деревьев, сколько внешним проявлением Зла, таившегося в обитателях этого дома и управлявшего их жизнями.
Декорации указывали на присутствие Рока. Они были расписаны красками и символами трагедии, и, глядя на них, Луциан гадал — неужели на свете еще остаются несчастные, обреченные жить в этом доме? Неужели найдется храбрец, который станет жить в этой комнате под прикрытием жутковатой тени самшита и прислушиваться зимними ночами к ударам дождя в занавешенное рваными шторами окно, стонам ветра в скрежещущих ветвях и барабанной дроби дождя по крыше над головой?
Нет, ни одна комната в этом жилище не могла быть обитаемой. Когда-то дом наверняка служил обителью мертвецу — узкий лунный луч, прорезав белый занавес, падал на застывший в судороге рот покойника, на дощатый пол, все еще хранящий влагу слез, а высокий вяз, раскачиваясь, вторил рыданьям и жалобам столпившихся вокруг мертвого тела родственников. Сырость и запах могильной земли заполонили дом, и те, кто хотел войти в него, отшатывались в ужасе, почуяв дыхание смерти.
Луциан много размышлял об этом странном старом доме, рисуя в своем воображении опустевшие комнаты и тяжелые, отставшие от стен и повисшие темными полосами обои. Он не мог представить себе, что в этих слепых черных окнах, уставившихся на заброшенный сад, когда-то блестел свет. Но сегодня ветер и дождь вновь напомнили о том страшном месте, и под неумолчный вой непогоды Луциан задумался, сколь несчастны были обитатели, сидевшие в темных комнатах при неверном свете свечи, прислушиваясь к стонам и жалобам вяза, бившегося о стены и крышу дома.
Сегодня суббота. В этих простых словах таилось нечто зловещее, напоминавшее о запертой комнате и муках приговоренного. Луциану было жутко думать о человеке, который когда-то жил в том доме и часами просиживал у окна, заслоненного тенью большого самшита, не обращая внимания на проступившие на стене трещины и похожие на тени неведомых чудовищ пятна сырости.
Как глупо, сидя в пригороде Лондона, будоражить воображение призраком заброшенного коттеджа, затерявшегося где-то на западе! Еще глупее призывать к себе все эти грезы и вымыслы, порождения ущербной луны и скорбных весенних дней в ту минуту, когда ты готов воспрянуть для новой жизни! Все, что ему нужно, это подвести итоги прошлого, и к рассвету он забудет о горе и мрачных воспоминаниях, о всех реальных или выдуманных кошмарах. Он чересчур зажился в Лондоне. Пора вновь вдохнуть аромат горного ветерка и увидеть знакомые изгибы реки, струящейся в глубокой прекрасной долине. Домой, домой!
Дрожь, похожая на судорогу, сотрясла тело Луциана, когда он вспомнил, что родного дома больше нет. Через полтора года после его отъезда в Лондон отец умер. Несколько дней Луциан пролежал в оцепенении — во власти горя и страшного осознания того, что отныне он навеки один. Мисс Дикон переехала к своим дальним родственникам в Йоркшир, и со старым домом было покончено. Луциан пожалел, что так редко писал отцу. С какой горечью перечитывал он теперь письма мисс Дикон: «Твой бедный отец все время ждет весточки от тебя, — писала она. — Это для него единственное утешение. Он чуть не слег, когда ты прислал ему деньги к Рождеству, — был уверен, что тебе пришлось голодать, чтобы скопить такую сумму. А он-то надеялся, что ты приедешь на праздники, и чуть ли не за три месяца принялся уговаривать меня, чтобы я испекла рождественский пирог».
Луциан лишился не только отца, но и последней человеческой привязанности. Вся его прежняя жизнь, его солнечное детство поблекли и превратились в сон. Со смертью отца для Луциана окончательно умерла и мать. Безвозвратно ушли в прошлое долгие, исполненные детскими радостями годы, и навеки потускнела память о тех, кого он любил и кто любил его. Как жаль, что он так редко писал домой! Ему было больно представить себе отца, поджидающего по утрам почтальона и каждый раз огорчающегося, что писем все нет. Но ведь Луциан не знал, как отец дорожит его небрежными посланиями, — да и вообще, какие у него могли быть новости?! Какой смысл писать о тех мучительных ночах, когда перо превращалось в незнакомое, не повинующееся его воле орудие, когда любое предпринятое усилие неизбежно вело к позорному поражению! Или о тех редких счастливых часах, когда удавалось дождаться чуда и только что написанная— строка загоралась, воспаряя в высь и увенчиваясь королевской короной. Бедный мистер Тейлор! Для него все это было бы китайской грамотой, вроде баек о Востоке и населяющих его народах, которые находят время для всяческих пустяков, заботятся лишь о том, как правильнее расставить цветы в кувшине, и разговаривают не о политике или охоте, но о красках или ароматах окружающего мира. Луциан не мог писать отцу о том, что составляло единственный интерес его жизни, —потому-то и были так редки его письма.
Теперь Луциан горевал, что больше некому писать и что он больше никогда не увидит свой дом. Вернулся бы он на Рождество, будь жив отец? Луциану казалось странным, что самые обыденные вещи вызывают в людях невыносимую боль, но именно воспоминание о пироге, по поводу которого так тревожился отец, вновь и вновь заставляло его плакать навзрыд. Он отчетливо слышал нервный, нарочито бодрый голос старого пастора: «Пора, давно пора подумать о нашем рождественском пироге, Джейн! Сами знаете, как его любит Луциан. Надеюсь, мальчик приедет к нам на это Рождество». А бедная мисс Дикон, конечно же, из себя выходила от ярости — надо же, заговаривать о рождественском пироге в июле! — и решительно пресекала приставания старика. Но теперь даже ее вечное ворчание казалось трогательным. На улице завывал ветер, в окно снова и снова ударял дождь. Луциан подумал, что его мысли о старом доме священника под сенью вязов были вызваны колдовскими шумами ветра — скрипом стволов, стонами ветвей, с плачем бьющих в стены дома, хлюпаньем влаги на раскисшей земле и барабанной дробью, которую издают отряхивающиеся от дождевых капель кусты перед домом.