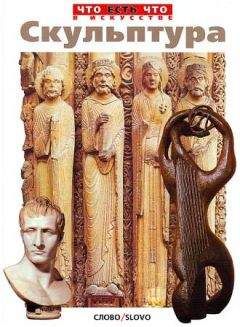Рик Янси - Ученик монстролога. Проклятье вендиго
Как падающий человек хватается за все, что подвернется, пусть и за самое слабое, он сказал:
— Уилл Генри никогда меня не оставит.
Я был уже в постели, когда он открыл дверь в спальню. Через прикрытые веки я видел, как он смотрит на меня. Дверь тихо закрылась. Потом снова открылась. Он назвал мое имя. Я не ответил. Он захлопнул дверь.
Я снова слышал их голоса. Или думал, что слышал. Я внезапно почувствовал страшный жар, и мое дыхание участилось. Я подумал, не начинается ли у меня лихорадка. Может, я слышал совсем не голоса, а их эхо — память, материализованную ядом Смертельного Червя. Я вернулся в спальню, когда он повел ее к двери — конечно, Мюриэл уже ушла, Я вспотел. Паранойя… бред… жжение в мочеточнике. Я пересчитывал по одному. Гангрена, кровотечение. Я просунул руку под ночную рубашку и осторожно ощупал яички. Распухли ли они? А как узнать, что они распухли? Нельзя сказать, что я каждое утро их замерял.
Журчание голосов в соседней комнате то мягко нарастало, то опадало.
Я закрыл глаза, и мне показалось, что что-то скользнуло, расслабилось, распустилось, как плохо завязанный узел, и в эту расслабленность волной вкатились голоса; я ощущал их как подводное течение в огромном море, в котором я плыл.
«Последнее представляет большую опасность… Ты будешь чувствовать себя обычно, а в следующую секунду уверуешь, что можешь летать».
Я не могу утверждать того, чего не видели мои глаза.
Но я не хочу и ставить это под сомнение.
Я знаю, что не был самим собой; я знаю, что в моей крови плавал яд.
Но в соседней комнате были голоса, а потом их не стало; не было закрывания двери и слов прощания.
* * *Голоса в соседней комнате затихают и больше не возвышаются. В пустом пространстве, где они были, женщина поднимает свои изумрудные глаза. В них — зеркало, которое высвечивает его, дает ему форму и содержание. Без света этих глаз в нем меньше содержания, чем в его тени.
Что мы дали?
Он один бредет по запустению; ветер свистит в высохших костях; воды нет.
В ее глазах — родник.
Что мы дали?
Он видел то, что видит желтый глаз; он молился в заброшенном соборе среди высохших костей, преклонив колена на развалинах; он слышал, как его имя произносит сильный ветер, напевают сухие ветви, скрипящие в бесплодном воздухе.
Он все это познал. Он монстролог. Он слишком долго пребывал в опустошении.
Теперь в ее глазах — изобилие.
Кто-то взялся бы о них судить. Я нет. Если это был грех, то он был прощен — освящен самим собой. Он встретился с собой в девственности ее глаз и получил отпущение грехов на ее алтаре.
В соседней комнате их тени смыкаются и сливаются в одну. Голодный мужчина насыщается; он утоляет жажду из потока родниковой воды. Ее сладкое дыхание. Ее золотистая в отблесках огня кожа. Хотя бы на время он вкусил то, чего не может ему дать загадочная любовница, ради которой он отверг свою любовь. Из-за этих глубоких, как море, изумрудных глаз Пеллинор Уортроп наконец нашел себя в другом человеке.
КНИГА ШЕСТАЯ
РАСПЛАТА
«Надо понимать, что в этом метрополисе нет таких улиц, где чужестранец не мог бы спокойно гулять днем и ночью».
Якоб РийсЧАСТЬ ДВАДЦАТАЯ
«Чудесный день»
Он ворвался в мою комнату ранним утром на следующий день с подносом, нагруженным яйцами, тостами, оладьями, сосисками, кексами с клюквой, яблочным коктейлем и апельсиновым соком. Мое изумление этим совершенно неожиданным и нехарактерным проявлением щедрости не осталось незамеченным. Доктор громко рассмеялся и широким замысловатым движением поставил поднос передо мной; он даже расправил салфетку и со всей чопорностью пристроил ее на мою перевязанную шею.
— Итак, магистр Генри, — воскликнул он, смутив меня непривычно веселым голосом. — Вы выглядите просто ужасно! — Он прошел к окну и раздвинул шторы. Комнату залил яркий солнечный свет. — Но день сегодня прекрасный — прекрасный день! Вот уж действительно такой день, который пробуждает в человеке дремлющего поэта. Мы слишком долго пребывали в унынии, ты и я, и нам надо исправить свой мрачный вид. Без надежды человек не лучше ломовой лошади, которая тащит тяжелую телегу со своими скорбями.
Он положил ладонь мне на лоб. Он измерил мне пульс. Он проверил мои глаза. Он усмехнулся, заметив, что я почти непонимающе смотрю на разложенные передо мной деликатесы.
— Нет, это не галлюцинация. Ешь! Я решил пропустить утреннее заседание и немного исследовать этот изумительный город. Ты знаешь, что я приезжаю сюда уже пятнадцать лет, но едва его видел? Я знаю только дорогу из гостиницы в Общество и обратно, все время в шорах, как тот ломовик из моей метафоры, никогда не решаюсь свернуть с проторенной дороги… слишком влюблен в рутину — а рутина это тоже своего рода смерть. Что? Почему ты на меня так смотришь? У тебя так сильно болит горло, что ты не можешь говорить?
— Нет, сэр.
— Как твой желудок? Ты сможешь есть?
Я взял вилку.
— Думаю, да, сэр.
— Замечательно! Думаю… сначала нам надо поехать на пароме на остров Либерти и взглянуть на статую мсье Бартольди. Он, знаешь ли, мой друг — не Бартольди. Строитель, Эйфель. Ну, не то чтобы друг, скорее, знакомый. Любопытная история об Эйфеле. Как ты знаешь, в будущем году в Париже проводится Международная выставка, и правительство хочет заказать подходящий монумент в ознаменование столетия революции. Итак! Эйфель пишет мне о своих планах…
Его прервал звонок телефона. Он выбежал из комнаты. Потягивая апельсиновый сок — «золотой нектар», как его назвала Лилли, — я услышал, как он сказал: «Да, да, конечно. Я сейчас спущусь».
Он появился в дверном проеме, и вид у него был совершенно другой. Пропали нетипичные для него искорки в глазах и пружинистость походки.
— Мне нужно идти, — сказал он.
— Почему? — спросил я. — Что случилось?
— Это… Оставайся здесь, Уилл Генри. Я не знаю, когда вернусь.
Я отставил поднос и откинул одеяло. Он бесстрастно смотрел, как я с трудом выбрался из кровати и, покачиваясь, встал, на непослушные ноги.
— Я себя хорошо чувствую, сэр. В самом деле хорошо. Пожалуйста, возьмите меня с собой.
На выходе из лифта нас встретил молодой полицейский из городского управления полиции. Не очень представительный, в свеженакрахмаленной форме, с копной рыжих волос и усыпанным веснушками круглым детским лицом, он выглядел слишком молодо для своего положения, как ряженый ребенок. Он энергично отдал честь доктору Уортропу и представился сержантом Эндрю Коннолли. Мы последовали за ним в ожидавший на углу экипаж.