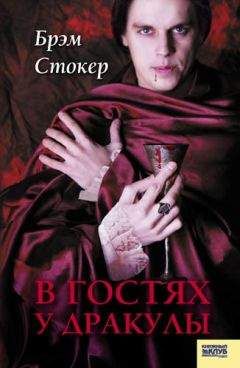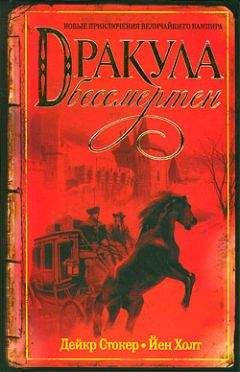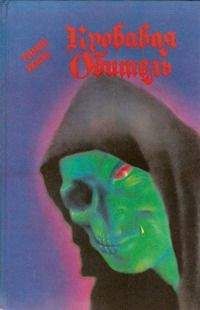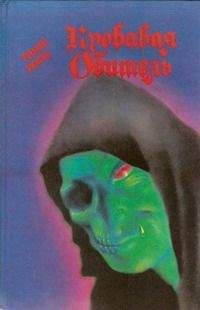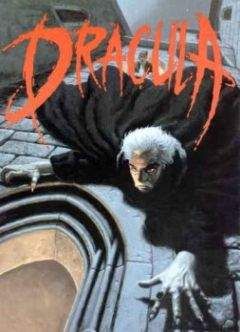Брэм Стокер - Дракула
Письмо Мины Харкер Люси Вестенра (не распечатанное ею)
«18 сентября.
Моя дорогая Люси!
Какой удар! М-р Хокинс внезапно умер! Многие подумают, что это вовсе не столь печалит нас, но мы оба так полюбили его, что нам определенно кажется, будто мы потеряли отца. Для меня, никогда не знавшей родителей, смерть милого м-ра Хокинса – настоящий удар. Джонатан сильно сокрушается: он опечален, глубоко опечален, – не только тем, что потерял этого доброго старика, всю жизнь так хорошо относившегося к нему, заботившегося о нем как о родном сыне и в конце концов оставившего ему такое состояние, которое нам, скромным людям, обыкновенно кажется несбыточной мечтой, – но чувствует эту утрату и в другом отношении. Он говорит, что ответственность, которая теперь целиком ложится на него, заставляет его нервничать. Он стал сомневаться в себе. Я стараюсь его подбодрить, и моя вера в него поддерживает его веру в себя. А то сильное потрясение, которое он недавно перенес, отражается теперь на нем еще больше. О-о! Так ужасно, что его чудесная, простая, честная и твердая натура, давшая ему возможность с помощью нашего дорогого друга пройти за несколько лет путь от простого клерка до хозяина, уязвлена настолько, что сама твердость ее утрачена. Прости, дорогая, что беспокою тебя своими горестями в те дни, когда ты так счастлива, – но, дорогая Люси, мне приходится быть мужественной и веселой при Джонатане, а это мне стоит большого труда, и не с кем отвести душу. Послезавтра мне придется быть в Лондоне, так как м-р Хокинс перед смертью выразил желание быть похороненным рядом со своим отцом. Поскольку у него нет никаких родственников, Джонатан должен принять на себя все хлопоты по погребению. Я постараюсь забежать к тебе, дорогая, хоть на несколько минут. Прости, что потревожила тебя. Да благословит тебя Бог!
Любящая тебя
Мина Харкер».Дневник д-ра Сьюарда
20 сентября.
Только решительность и привычка смогли заставить меня начать сегодняшнюю запись. Я слишком печален и подавлен, настолько устал от всего в этом мире, включая саму жизнь, что мне было бы безразлично, услышь я в эту самую минуту шум крыльев ангела смерти. И он не без успеха взмахивал зловещими крыльями: мать Люси, отец Артура, а теперь… Но вернусь к своим обязанностям.
Я сменил Ван Хелсинга возле Люси. Мы хотели, чтобы Артур также пошел отдохнуть, но он отказывался и согласился уйти лишь тогда, когда я сказал ему, что он понадобится нам днем и будет плохо, если мы все устанем, так как от этого может пострадать Люси.
Ван Хелсинг был с ним очень внимателен и заботлив.
– Пойдемте, мой мальчик, – сказал он Артуру, – пойдемте со мной. Вы ослабли и устали, ваше отчаяние и душевная боль, мы знаем, также легли тяжким бременем на душу. Вам не надо оставаться в одиночестве, одиночество исполнено страха и тревоги. Пойдемте в столовую, там много света и две софы. Вы ляжете на одну, а я на другую, и наша взаимная приязнь благотворно подействует на нас обоих, даже если мы не будем разговаривать, даже если мы заснем.
Артур ушел вместе с Ван Хелсингом, бросив пристальный взгляд на бледное лицо Люси, которое было белее полотна подушки, на которой покоилась ее голова. Люси лежала совершенно спокойно, и я мельком оглядел комнату, словно желая убедиться, что все в ней так, как должно быть. Профессор снова развесил тут повсюду цветы чеснока. Дыру в разбитом окне он заткнул чесноком, да и на шее Люси, над шелковым платочком, который Ван Хелсинг заставил ее повязать, был густой венок из тех же самых ароматных цветов. Люси как-то тяжело дышала и выглядела гораздо хуже, чем раньше, так как полуоткрытый рот обнажал бледные десны. Зубы ее в сумерках казались еще длиннее, чем утром. Благодаря игре света казалось даже, будто у нее появились длинные и острые клыки. Я присел к ней на кровать, и она шевельнулась, словно почувствовала себя неловко. В это время раздался глухой звук, точно кто-то постучал чем-то мягким в окно. Я осторожно подошел к нему и выглянул за край отогнутой шторы. Светила полная луна, и я увидел, что шум производила большая летучая мышь, которая кружилась у самого окна – очевидно притянутая светом, хотя и тусклым, – постоянно ударяясь крыльями об окно. Когда я вернулся на свое место, то заметил, что Люси слегка подвинулась и сорвала со своей шеи венок из чеснока. Я положил его обратно и продолжал сторожить.
Затем она проснулась, и я дал ей поесть, как это предписал Ван Хелсинг. Она поела нехотя и очень мало. В ней не было больше заметно той бессознательной борьбы за жизнь, которая до сих пор служила доказательством крепости ее организма. Меня поразило, что, как только она пришла в себя, она тотчас же лихорадочным движением прижала к груди цветы. Необычайно странно было то, что, как только она впадала в свой странный, как бы летаргический сон с его тревожным движением, она сбрасывала с себя цветы, а как только просыпалась, снова прижимала их к себе. Я не допускал, что явление это случайно, ибо на протяжении долгих ночных часов, которые я провел, оберегая ее сон, она постоянно то засыпала, то просыпалась и всякий раз повторяла те же движения.
В шесть часов Ван Хелсинг сменил меня. Артур задремал, и доктор, пожалев, не стал его будить. Когда он увидел лицо Люси, он испуганно вздрогнул и сказал резким шепотом:
– Отодвиньте штору, мне нужен свет!
Затем он наклонился и, почти касаясь лицом Люси, осторожно осмотрел ее. Сдвинув цветы и сняв шелковый платок с шеи, он осмотрел шею и пошатнулся.
– Боже мой! – воскликнул он сдавленным голосом. Я тоже наклонился и взглянул; то, что я увидел, и меня поразило: раны на шее совершенно затянулись.
Целых пять минут Ван Хелсинг молча стоял и сурово глядел на нее. Затем он обернулся ко мне и спокойно сказал:
– Она умирает. Теперь это недолго протянется. Заметьте: это будет иметь громадное значение, умрет ли она в сознании или во сне. Разбудите нашего несчастного друга, пусть он придет и взглянет на нее в последний раз; он доверял нам, а мы ему это обещали.
Я пошел в столовую и разбудил Артура. В первую минуту он был как в дурмане, но когда увидел солнечный луч, пробившийся сквозь щель ставни, то испугался, что опоздал. Я уверил его, что Люси все время спала, но намекнул ему, насколько мог осторожно, на то, что мы с Ван Хелсингом боимся, как бы это не было ее последним сном. Он закрыл лицо руками, опустился на колени возле кушетки и оставался в таком положении несколько минут, молясь. Плечи его содрогались от беззвучных рыданий. Я взял его за руку и заставил подняться.
– Пойдемте, мой дорогой друг, – сказал я ему, – укрепитесь духом: так будет лучше и легче для нее.