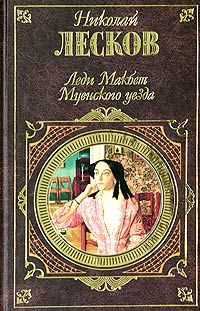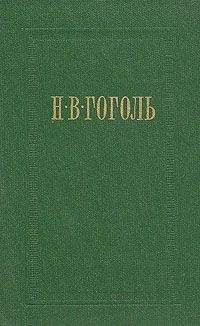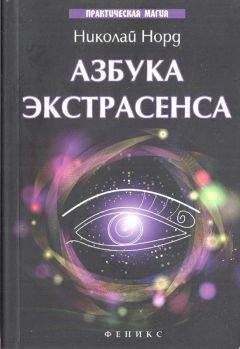Николай Норд - Избранник Ада
Тут Бормочихе что-то не понравилось, она кинулась к черепу – трясь его, а оттуда золотой червонец выпал, опять такой же, как и мне достался. Она снова за черепушку взялась и ну ее трясти и так, и этак, наверное, думала, что череп полный червонцев должен быть. Но ничего больше не вытрясла. Потом, как бы сама себе, пробормотала, как всегда делала: «Странно все это, я собственными руками папе на глаза две монетки положила и две бутылки водки, с каждого боку – по бутылочке, он эту водочку любил. И еще папирос пачку… И могила, вроде, целая, нетронутая, а вещи попрападали…».
Мы ее стали допытываться о подробностях, но так и не добились от нее ничего больше. Хотели ту водку из могилы у нее выпросить, попробовать, какая лучше: нынешняя или ранешняя? Но она не дала – только свой проклятый самогон поставила. Кости отцовы сложила в фанерный ящик от посылки почтовой и унесла домой. А уж куда потом их дела – не знаю, говорят, у себя во дворе схоронила, да это не моего ума дело.
– Да, это странно, если могилу никто не трогал… Сами по себе испарились вещички ее что ли? – искренне удивился я.
– Что могилу не трогали – факт! – убежденно произнес Вася. – Бормочиха всю свою жисть за могилой ухаживала, цветочки сажала, если бы что случилось непотребное – так заметила бы, ясно дело.
– Погоди-погоди… Так это что ж получается, лешаки ее добро унесли? Но как?
– Вот тут-то, Колек, и есть самая большая загадка века для меня! Сам ума не могу приложить – как? Вот и решил пойти к Бормочихе. Отдать ей ее вещички, то бишь – продать. Конечно, мне страсть как хотелось самому водочку попробовать, но подумал, что за нее с Бомочихи литр самогону смогу выручить, за папироски – еще пол-литра, а это переведи-ка на литро-градусы, скоко получится? То-то! Ну, а за червонец – деньги хотел получить да новый лисапед купить, ведь государство за клад только двадцать пять процентов дает, а хватит ли того на лисапед?
В общем, поутрянке встал и пошел к Бормочихе. Та вещи признала, историю мою выслушала внимательно, но комментариев своих не комментировала, промолчала. Самогону без разговоров дала полтора литра, а за монету – сотню токмо, сжадничала. Но я тово тогда не знал, потом у умных людей спросил: сколько, мол, нынче за червонец царский получить можно? Сказали, что и все сто пятьдесят рубликов можно было бы заграбастать. А я тогда снова к Бормочихе пошел и стал требовать пятьдесят рублей, но только литр самогона еще выпросил – а чо с нее больше взять? Лисапед, правда, я так и не купил: как-то деньги ушли быстро, как скрозь пальцы, невесть куда.
А Джульбарс мой с той поры смирнехонький стал – тише воды, ниже травы, ни на кого не лает, не кусает. Но не выгонишь же его со двора, жалко – десять лет вместе горе мыкаем. Кормлю, вот, скотину неблагодарную, почитай, на пенсию досрочно отправил.
– Ну, а что еще про леших можешь рассказать?
– Да ничо больше. Кто их видел, стараются держать язык за зубами, я так полагаю – чтоб их полоумными не считали.
– Ну, что ж, Вася, спасибо за ценную информацию, пора нам, однако, с козлиным надоем разобраться. Как ты считаешь? – сказал я, полагая, что ничего интересного о необычных существах моряк мне уже не расскажет.
Понял и Василий, что момент расставания близок и что от меня тоже больше ждать нечего – в смысле выпивки, за все уже заплачено. Он окончательно скис, но вдруг неуверенная надежда блеснула в его бурятских глазках, и он спросил:
– Слышь, Колек, я тут понял, ты разными интересными историями интересуешься? Хочешь, я тебе расскажу, как еще до армии, я щуку поймал огромадную, чуть не два метра ростом?
– Нет, Василий, спасибо. Пора мне.
Василий грустно вздохнул, но не потерял последней надежды, многозначительно объявив:
– Ну, тогда, Колек, я решил тебе один подарок сделать, если конечно… – и морячок, с понятным намеком, поставил шелбан по брюшку пустой бутылки, отчего та весело загудела.
– Что за подарок? – без особого энтузиазма осведомился я.
– А вот, пойдем давай!
Василий поднялся и направился ко второй комнатке. Он раздвинул, прикрывающий ее полог, и поманил меня рукой с видом Алладина, зовущего за собой в пещеру с несметными сокровищами. Этот его загадочный вид подвиг меня к мысли, что за таинственным пологом скрывается некий значимый артефакт – никак не меньше, чем скальпель лешего. И я прошел за морпехом следом.
Комнатка оказалась еще меньшей, чем та в которой мы гостевали, и такой же сумрачной. Единственное окошко справа – было плотно задраено голубыми ситцевыми занавесками, изрядно захватанных руками. Около окна стояли два вполне еще приличных не старых стула, на которых были развешаны штопаные чулки, женские фланелевые зимние трусы, черный бюстгальтер и прочее подобное тряпье. Напротив меня, за стульями, разместилась тумбочка салатного цвета, какими обычно оснащают больницы и солдатские казармы. Сверху тумбочку украшал раритетный телевизор «Радуга» – самый первый советский серийный цветной – аж три цвета! – голубеющий увеличительной линзой. Сам телевизор украшали усики антенны, рядом с которой приютился переносной радиоприемник «Спидола».
Левую часть помещеньица занимала железная кровать, крашенная в голубой и застеленная лоскутным, замусоленным одеялом. На кровати, спиной к нам, свернувшись калачиком, пьяным сном спала какая-то тетка в розовом вельветовом, вышарканном до белизны халате.
То, что она была в стельку пьяной – не вызывало сомнений. Это было видно по вываленным на подушку губам, казавшихся отдельными от лица. С них на подушку стекала слюна, оставляя на ней большое мокрое пятно, а также по распухшему синюшному лицу и, плотно стоящему здесь, запаху перегара, более крепкого и смрадного, чем тот, который исходил от Василия.
– Клавка это! Про которую я тебе говорил, – осклабился Василий, хлопнув тетку по заднице, на что та совершенно не отреагировала, разве что дребезжанием тощалых бедер.
– И что с того?
– А вот, смотри!
С этими словами Вася схватился за край халата и задрал его кверху, оставив нижнюю часть тела Клавки обнаженной. Перед моими глазами предстала картинка, достойная какого-нибудь задрипанного притона.
Худые, мосластые ноги Клавки были серозного цвета, как у ощипанной удушенной курицы, которые переплетали бугристые ветви фиолетовых вен. Сами ноги начинались из костистой задницы, с бурыми просиженными пятнами на каждой половине, напоминавшие старое корье. Между этими деревянными половинами произрастала пилотка – извини, милый читатель, другого слова я к этому предмету мужского вожделения здесь подобрать не могу. И вовсе не потому, что лично я отрицательно отношусь к этому самому популярному человеческому органу – если конечно, он не принадлежит к представительнице какого-нибудь там шоу-бизнеса – просто в каждом правиле есть свои исключения, ведь и со старухой бывает проруха.